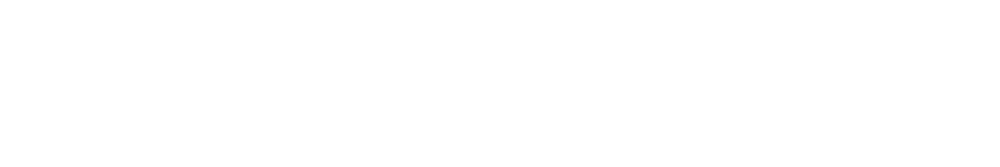Этим текстом Братва забивает вам стрелу
именем
Евгений Вышенков постоит рядом на вашей стороне
братвы
Полный провал путча только подчеркнул слабость государства. И того, что отмирало и того, которое рождалось. Хаос проник и в преступные сообщества. В Петербург хлынула братва из других городов. Эти были еще страшнее, а оружие в Петербург лилось, как из прорвавшейся трубы. Единственные, кто хоть как-то царил над всей той бесовщиной, были боссы Малышев и Кумарин – люди абсолютно разные. Одному нужны были только деньги, другому власть в высшем ее значении.
седьмая СЕРИЯ
Глава 21
КРОВЬ КАК КАНОН
«Я только кровь остановила». Вера Татарникова, журналист, живет в Германии

«В конце 80-х я работала главным редактором газеты «Аничков мост» и являлась секретарем правления Союза журналистов Ленинграда. В 1991 году финансирование Союза рухнуло, и мы старались выжить. Помещение на первом этаже знаменитого дома 71 по Невскому проспекту было сдано в аренду под ночной клуб «Доменикос». Его история забавна. Вначале идея клуба принадлежала сицилийцу из Палермо по имени Пиколло – другу Собчака. Но заведение открыл нигериец Лакки, которого убили в 90-х. С самого начала клуб «крышевал» Слава Кирпичев. Он часто приходил в Союз в своем чесучовом костюме и был безумно вежлив. А рядом с ним «малышевские»: Сергей Зиновьев, которого все звали Ташкент, Юра Криминал.
Криминал за мной тогда приударил и подарил французские духи «Трезор». Я взяла, от греха подальше. Потом он начал рваться в Союз чуть ли не каждый день, вел себя развязно, и Андрей Берлин – друг Кирпичева, его шуганул. И Криминал, и Ташкент, и Кирпич, и Берлин сегодня на том свете.
Криминал за мной тогда приударил и подарил французские духи «Трезор». Я взяла, от греха подальше. Потом он начал рваться в Союз чуть ли не каждый день, вел себя развязно, и Андрей Берлин – друг Кирпичева, его шуганул. И Криминал, и Ташкент, и Кирпич, и Берлин сегодня на том свете.
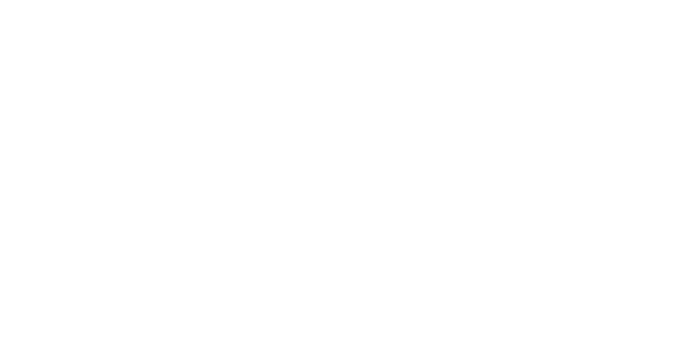
Окончательный расчет, братва, Петербург, 90-е
А напротив здания Союза райком партии, был там же отдел КГБ, перед райкомом стоянка машин запрещена, никто не смел припарковаться. Кроме них. А они бросали машины и через проспект к нам. Никто замечания им не делал.
Помню, Ташкент говорил: «К нам вход рубль – выход сто долларов». А коммерсантам так: «Мы «крыша», а ты крыса». А сами в Париж ездили, дорвались с восторгом и упоением. Вокруг крутились остатки каких-то «феоктистовских». «Малышевские» снимали правительственные дачи через Юрия Комарова. Черт-те что.
До этого я их не видела. Да я живого вора в жизни не видела. А тут появилось столько джипов, как если бы сегодня танки по Невскому ползать начали. Новая Россия не с гласности началась, когда мы вместе с Белкой Курковой, с Салье бегали по телевидению. Бандиты стали новой субстанцией. С ними началась веха новых людей.
Я до этого и Кумарина в баре «Таллин»-то видела, но воспринимала его как бармена. Моя дочь всегда говорила тогда: «Вова очень хороший».
Моего мужа – основателя первого совместного предприятия в городе, через несколько лет убили. Он хотел от «малышевских» перейти под «крышу» «тамбовских», говорил: «У них условия привлекательней».
Следователь молоденький через много лет спрашивает про его знакомых с «крыши» – про Ташкента, Кирпичева, других. И говорит: «У вас про кого ни спросишь, так все убиты». Я говорю: «Время было такое».
Еще вспомнила: как-то пришли «казанцы». Они всегда стаями ездили, мы их клопами за маленький рост называли. Заявились Мартин, Маис и еще выводок. У нас стоматология тоже арендовала помещение, и они хотели с нас денег. Я сказала, что денег нет – самим трудно. А Мартин, привалившись к косяку, заметил: «Мы тебя не убьем – мы тебе ноги вырвем, будешь всю жизнь ползать». Я пообещала им лечить их бесплатно. Через какое-то время Ульяна – заведующая клиникой, звонит: «Они приперлись, но это не лечится – у одного пулевое ранение в челюсть. Я только кровь остановила».
Помню, Ташкент говорил: «К нам вход рубль – выход сто долларов». А коммерсантам так: «Мы «крыша», а ты крыса». А сами в Париж ездили, дорвались с восторгом и упоением. Вокруг крутились остатки каких-то «феоктистовских». «Малышевские» снимали правительственные дачи через Юрия Комарова. Черт-те что.
До этого я их не видела. Да я живого вора в жизни не видела. А тут появилось столько джипов, как если бы сегодня танки по Невскому ползать начали. Новая Россия не с гласности началась, когда мы вместе с Белкой Курковой, с Салье бегали по телевидению. Бандиты стали новой субстанцией. С ними началась веха новых людей.
Я до этого и Кумарина в баре «Таллин»-то видела, но воспринимала его как бармена. Моя дочь всегда говорила тогда: «Вова очень хороший».
Моего мужа – основателя первого совместного предприятия в городе, через несколько лет убили. Он хотел от «малышевских» перейти под «крышу» «тамбовских», говорил: «У них условия привлекательней».
Следователь молоденький через много лет спрашивает про его знакомых с «крыши» – про Ташкента, Кирпичева, других. И говорит: «У вас про кого ни спросишь, так все убиты». Я говорю: «Время было такое».
Еще вспомнила: как-то пришли «казанцы». Они всегда стаями ездили, мы их клопами за маленький рост называли. Заявились Мартин, Маис и еще выводок. У нас стоматология тоже арендовала помещение, и они хотели с нас денег. Я сказала, что денег нет – самим трудно. А Мартин, привалившись к косяку, заметил: «Мы тебя не убьем – мы тебе ноги вырвем, будешь всю жизнь ползать». Я пообещала им лечить их бесплатно. Через какое-то время Ульяна – заведующая клиникой, звонит: «Они приперлись, но это не лечится – у одного пулевое ранение в челюсть. Я только кровь остановила».
Чужие
Столица Татарстана уже много лет была поделена между районными молодежными группировками. Еще в конце 70-х годов 26 подростков убивали и калечили людей в течение нескольких лет, за что четверо из них были приговорены к смертной казни.
Через 10 лет та же беспощадная молодежь из разных кварталов стала заниматься рэкетом и делить доходы от него между собой.
В 1990-м году в Ленинград из Казани, где тамошние банды уже вовсю кромсали друг друга, стали приезжать беговые – те, кого разыскивали за убийства милиция и конкуренты. Они оказывались здесь с поддельными документами и без денег. Освоиться на новом месте им помогали свои же, успевшие врасти в местные криминальные структуры.
Первыми из таких вынужденных мигрантов были Ринат Гиламов по прозвищу Ружье и Жоркин.
В 1990-м году в Ленинград из Казани, где тамошние банды уже вовсю кромсали друг друга, стали приезжать беговые – те, кого разыскивали за убийства милиция и конкуренты. Они оказывались здесь с поддельными документами и без денег. Освоиться на новом месте им помогали свои же, успевшие врасти в местные криминальные структуры.
Первыми из таких вынужденных мигрантов были Ринат Гиламов по прозвищу Ружье и Жоркин.
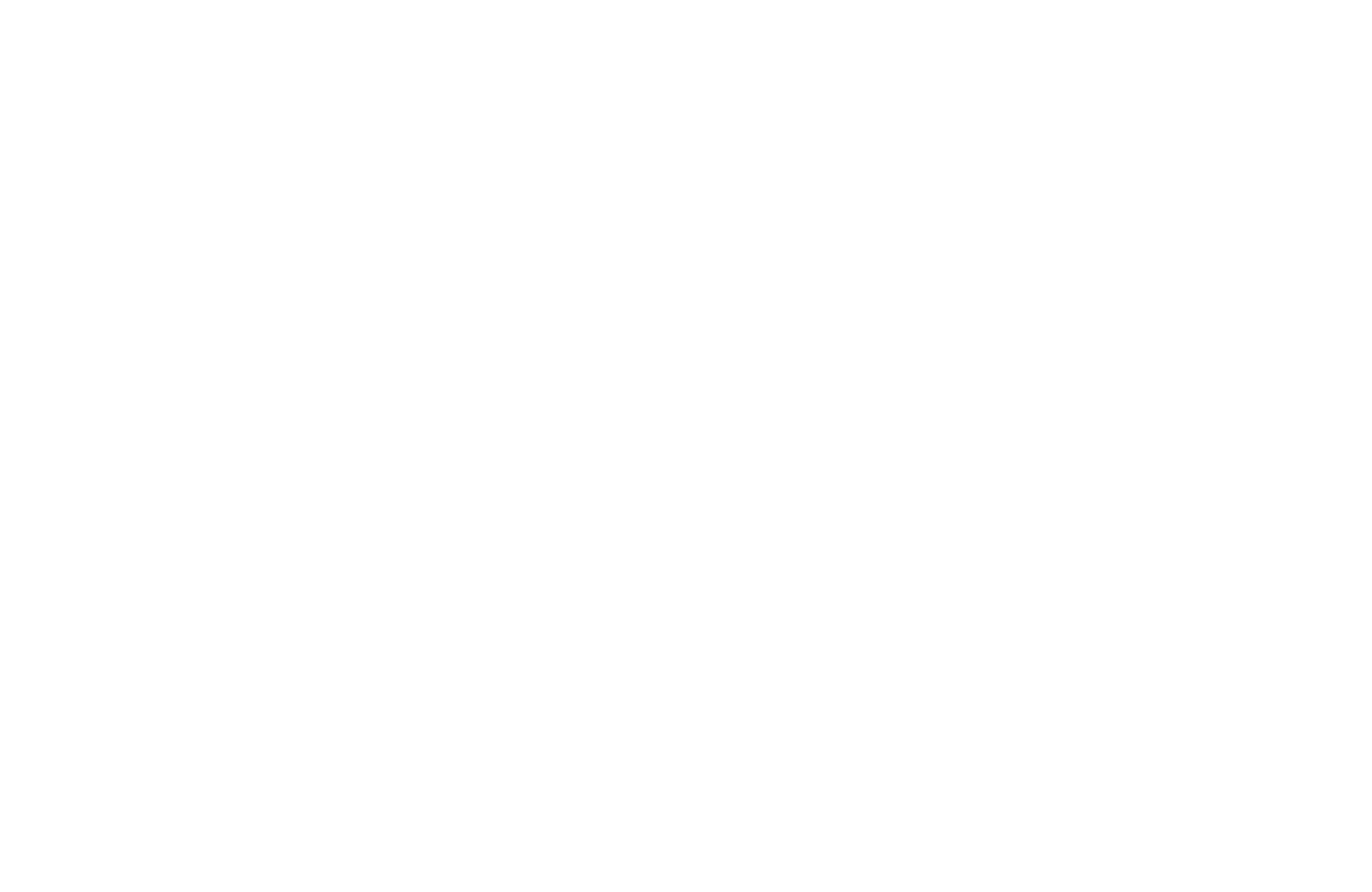
«Казанские» из группировки «перваки», справа Ружье. Петербург, гостиница «Прибалтийская», 90-е
Запомнить все производные от названий микрорайонов Казани – «тукаевские», «суконка», «тяп-ляп», «кинопленка» – было невозможно, так что всех стали называть просто «казанскими». «Казанские» сразу обратили на себя внимание агрессивной провинциальностью. Они обладали одним-единственным навыком – навыком уничтожения себе подобных, но зато его отточили до совершенства. Ничего другого они делать не умели и не хотели. В незнакомом городе без протекции существовать сложно, и крохотные коллективы с разных улиц татарской столицы один за другим стали представляться «малышевскими». Их не приняли в сообщество, испугавшись их дикой неуправляемости, но держали на подхвате, как и оружие, на всякий случай. Как сказал мне один участник того вектора: «Помнишь фразу из «Храброго сердца» - возьмем ирландцев, они ничего не стоят».
Первое время «малышевские» сдерживали агрессию «казанских», подкармливали их, не допускали их конфликтов с местными контрагентами. «Казанские» же оказались самодостаточны, они и в незнакомом месте продолжали отстреливать друг друга. Их названия ленинградцам ничего не говорили, а «перваки» мстили «борисковским», «жилка» терзала «тяпляповских» и наоборот.
В начале 1991 года в Питере оказались представители самой богатой и влиятельной группировки Казани, собранной из жителей ее центра, – «кировские». Их лидер, Наиль Хаматов по прозвищу Рыжий, ездил на джипе NissanPatrol, жил в гостинице «Астория» и рубашку второй раз не надевал. Хаматов приехал «крышевать» крупный татарский бизнес, связанный с нефтью. Наиль каждый месяц отправлял транши в Казань. Через некоторое время, когда обороты выросли, присматривать за Хаматовым из Казани прислали Мартина. Он-то, как уже было сказано, и застрелил Хаматова в том же 1991 году.
Первое время «малышевские» сдерживали агрессию «казанских», подкармливали их, не допускали их конфликтов с местными контрагентами. «Казанские» же оказались самодостаточны, они и в незнакомом месте продолжали отстреливать друг друга. Их названия ленинградцам ничего не говорили, а «перваки» мстили «борисковским», «жилка» терзала «тяпляповских» и наоборот.
В начале 1991 года в Питере оказались представители самой богатой и влиятельной группировки Казани, собранной из жителей ее центра, – «кировские». Их лидер, Наиль Хаматов по прозвищу Рыжий, ездил на джипе NissanPatrol, жил в гостинице «Астория» и рубашку второй раз не надевал. Хаматов приехал «крышевать» крупный татарский бизнес, связанный с нефтью. Наиль каждый месяц отправлял транши в Казань. Через некоторое время, когда обороты выросли, присматривать за Хаматовым из Казани прислали Мартина. Он-то, как уже было сказано, и застрелил Хаматова в том же 1991 году.
Цирк с турецкими шпионами
Весной 1989 года мастер спорта по вольной борьбе и будущий депутат ЗакСа Ленобласти Андрей Рыбкин привел в компанию Кумарина Василия Владыковского. Сейчас многие его знают как Васю Брянского, хотя родился он в Гомельской области.
За пять лет до этого Владыковский служил в войсках спецназа в одном взводе с Юрой Колчиным, и в 1984 году они вместе приехали в Ленинград. Как только один из них стал работать с «тамбовскими» в офисе мастера спорта по боксу и будущего депутата Госдумы Михаила Глущенко, он сразу позвал с собой боевого товарища. Юрий Колчин родился в селе Дятьково Брянской области. Как и большинство ассимилировавшихся рэкетиров, он через некоторое время стал приглашать в город друзей детства, и в подчинении у Владыковского оказалось человек десять из этого далекого населенного пункта в Брянской области, за что он и получил прозвище.
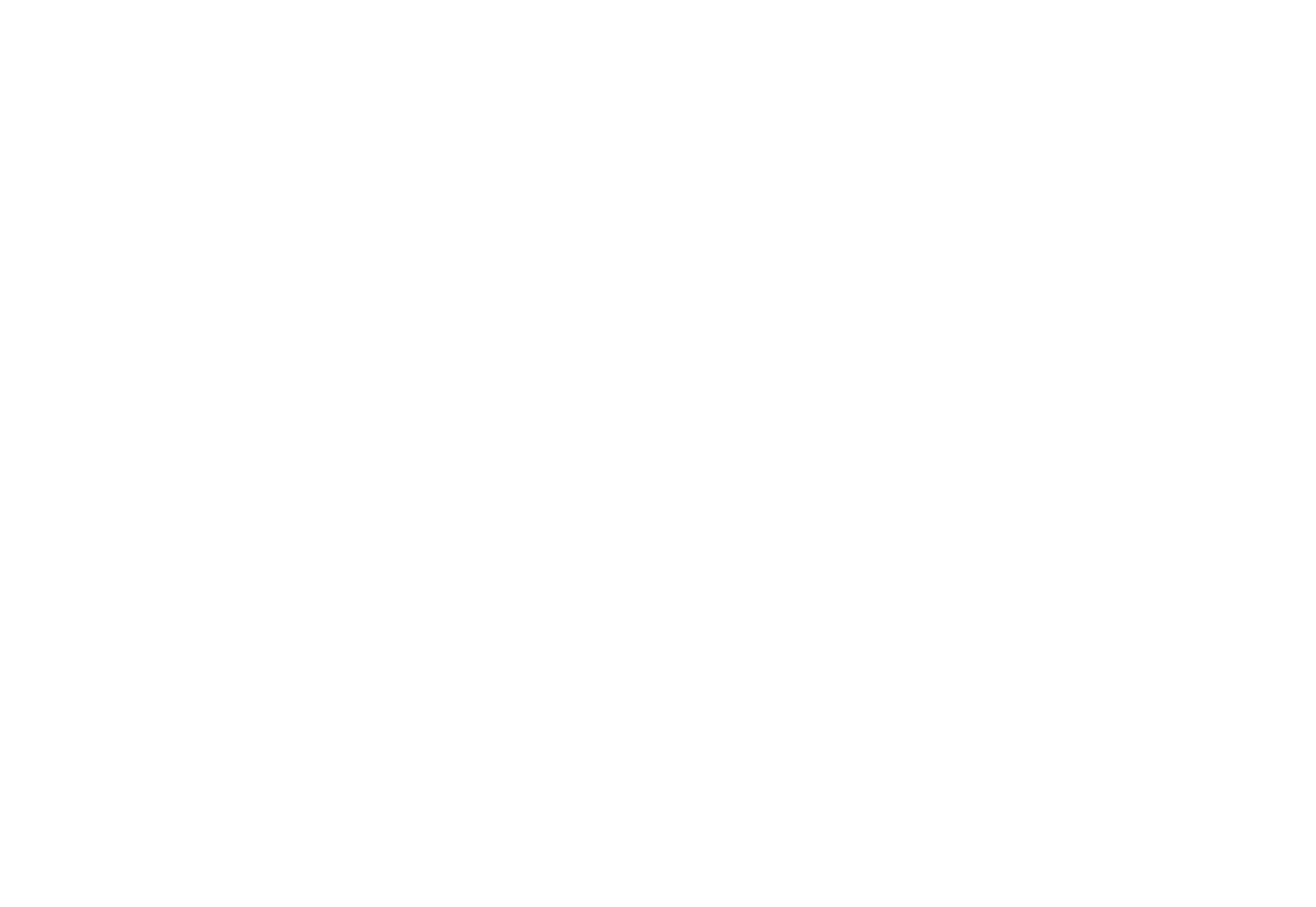
Колчин (справа), Петербург, 90-е
Через много лет во время следствия Колчин будет проходить как организатор по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой вместе с теми молодыми людьми из Дятьково, кого он пригласил к «тамбовским». После обвиняемым по уголовному делу войдет и Михаил Глущенко, который вместе со Старовойтовой попал от ЛДПР в Госдуму.
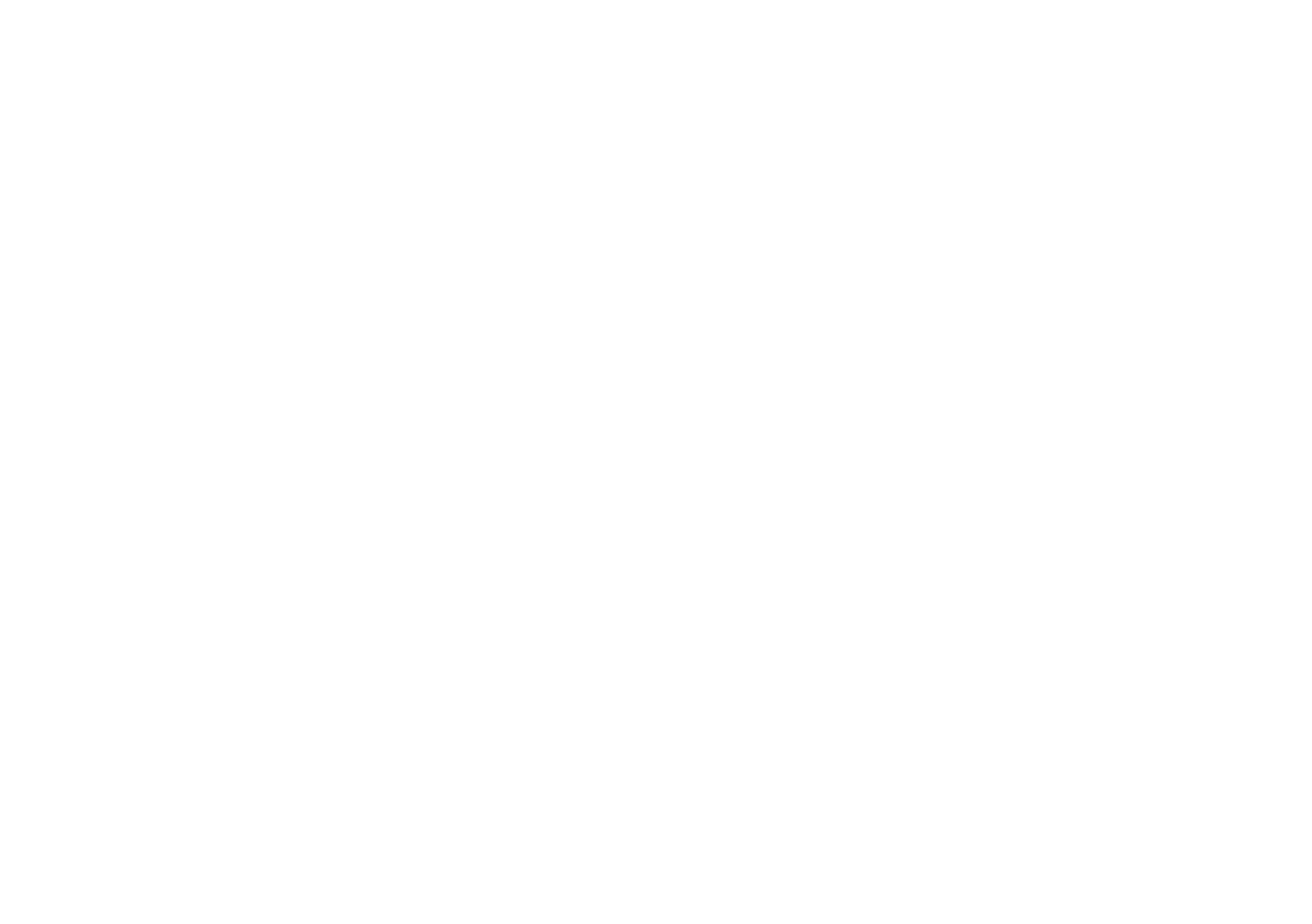
Глущенко в Госдуме (второй слева)
Первый срок Колчин получил в ноябре 1989 года, после того как был задержан на Некрасовском рынке во время игры в «три карты». К этому моменту он официально работал дворником в Кировском районе и числился членом ВЛКСМ. Ему дали два с половиной года колонии общего режима, но не за мошенничество, а за оказание сопротивления милиции с применением насилия: «Отказался подчиниться законным требованиям, выражался грубой нецензурной бранью, а затем укусил за живот милиционера Шарова, прекратил свои действия после того, когда участковым Сушковым были применены специальные средства». 29 декабря 1990 года Колчина освободили условно-досрочно, а уже через неделю, 7 января 1991 года, его вновь задержали сотрудники уголовного розыска.
«Колчин в неустановленное время, в неустановленном месте, у неустановленного лица незаконно приобрел огнестрельное оружие – пистолет конструкции Токарева ТТ, боевые припасы – 8 штатных боевых патронов калибра 7,62 мм и боевую гранату РГД-5…».
«Колчин в неустановленное время, в неустановленном месте, у неустановленного лица незаконно приобрел огнестрельное оружие – пистолет конструкции Токарева ТТ, боевые припасы – 8 штатных боевых патронов калибра 7,62 мм и боевую гранату РГД-5…».
Петербург, 90-е
Он снова укусил милиционера: «Находясь в 4 отделении милиции, после изъятия у него оружия при выводе его из помещения для задержанных в туалет предпринял попытку скрыться и нанес удар ногой в грудь милиционеру Войновскому, причинив ему физическую боль, однако был задержан Войновским и Малинкой, которым оказал активное физическое сопротивление, при этом укусил Войновского, причинив ему ссадину руки». Сам Колчин так объяснил свои действия: «…он, Колчин, подумал, что его выводят убивать, и решил обратиться за помощью к прохожим на улицу».
Находясь в следственном изоляторе, Глущенко собственноручно написал заявление на имя начальника ГУВД (орфография и пунктуация сохранены):
«Я Глущенко М. И. описываю всю ситуацию. Все началось в 1976 г. На первенстве Европы в Турции. Как перспективного боксера меня начали вербовать, вернее остаться в Турции для проф. бокса. Я как патриот своей страны отказался. И тут все началось по приезду в г. Алма-Ата где я родился. Приезжали люди и вели переговоры по поводу возврата заграницу. Но я остался дома. Они стали за мной следить и сделали на меня установку. Специально познакомили с девушкой и сделали фабрикацию дела посадили в тюрьму. Городской суд приговорил к 8-ми годам. Я начал писать во все инстанции, в Прокуратуру, в организацию объединенных наций. И Верховный суд отменил 8 лет. Я сам прилетел в Москву на судебно-медицинскую экспертизу, там меня держали вместо 21 дня – 9 месяцев. Но все опять с помощью контрразведки Турции. Потом меня признали социально опасным для общества и отправили в Алма-атинскую психиатрическую больницу. В больнице при помощи разведки в меня кололи разные лекарства. И вот я вырвался и прилетел в Ленинград. Поступил в институт Лесотехнической академии и проучился два курса. Затем люди из Турции сделали так, что меня сильно попросили уйти. И также потом из холодильного института.
Я начал прятаться от них. Почти построил свою семейную жизнь. Женился. И вот они опять напомнили о себе.
31 декабря 1990 года они пришли ко мне и сделали мне предложение, чтоб я передавал им сведения и поучаствовал в подрывной деятельности – взорвать Запорожский танкостроительный завод. Я категорически отказался и последовал удар. На протяжении нескольких дней за мной ездила машина «наблюдателей» и в окна подсвечивали фонариком. Эти люди по национальности турки. Вечером проезжая ко мне подсел какой-то парень. Я его где-то видел. Мне говорила милиция что на Некрасовском рынке. Но точно не помню. Попросил чтоб я его довез до Купчино. Мне было по пути, я ехал к теще. Вдруг за нами увязались три машины. Мне предложили остановиться. Парень которого я вез тут же заснул. Я остановился и увидел пистолет. Я испугался.
Я считаю товарищ генерал это прямая подготовка чтобы меня посадили. Прошу разобраться в этом деле.
С искр. Уважением
Мастер спорта международного класса
М. Глущенко».
Вину за незаконное ношение оружия Колчин взял на себя, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Глущенко отпустили еще до суда.
Находясь в следственном изоляторе, Глущенко собственноручно написал заявление на имя начальника ГУВД (орфография и пунктуация сохранены):
«Я Глущенко М. И. описываю всю ситуацию. Все началось в 1976 г. На первенстве Европы в Турции. Как перспективного боксера меня начали вербовать, вернее остаться в Турции для проф. бокса. Я как патриот своей страны отказался. И тут все началось по приезду в г. Алма-Ата где я родился. Приезжали люди и вели переговоры по поводу возврата заграницу. Но я остался дома. Они стали за мной следить и сделали на меня установку. Специально познакомили с девушкой и сделали фабрикацию дела посадили в тюрьму. Городской суд приговорил к 8-ми годам. Я начал писать во все инстанции, в Прокуратуру, в организацию объединенных наций. И Верховный суд отменил 8 лет. Я сам прилетел в Москву на судебно-медицинскую экспертизу, там меня держали вместо 21 дня – 9 месяцев. Но все опять с помощью контрразведки Турции. Потом меня признали социально опасным для общества и отправили в Алма-атинскую психиатрическую больницу. В больнице при помощи разведки в меня кололи разные лекарства. И вот я вырвался и прилетел в Ленинград. Поступил в институт Лесотехнической академии и проучился два курса. Затем люди из Турции сделали так, что меня сильно попросили уйти. И также потом из холодильного института.
Я начал прятаться от них. Почти построил свою семейную жизнь. Женился. И вот они опять напомнили о себе.
31 декабря 1990 года они пришли ко мне и сделали мне предложение, чтоб я передавал им сведения и поучаствовал в подрывной деятельности – взорвать Запорожский танкостроительный завод. Я категорически отказался и последовал удар. На протяжении нескольких дней за мной ездила машина «наблюдателей» и в окна подсвечивали фонариком. Эти люди по национальности турки. Вечером проезжая ко мне подсел какой-то парень. Я его где-то видел. Мне говорила милиция что на Некрасовском рынке. Но точно не помню. Попросил чтоб я его довез до Купчино. Мне было по пути, я ехал к теще. Вдруг за нами увязались три машины. Мне предложили остановиться. Парень которого я вез тут же заснул. Я остановился и увидел пистолет. Я испугался.
Я считаю товарищ генерал это прямая подготовка чтобы меня посадили. Прошу разобраться в этом деле.
С искр. Уважением
Мастер спорта международного класса
М. Глущенко».
Вину за незаконное ношение оружия Колчин взял на себя, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Глущенко отпустили еще до суда.
Пальба
Вплоть до 1991 года даже самые резкие выяснения отношений редко заканчивались выстрелами, даже если у кого-то и было желание расправиться с контрагентом, это принято было делать руками или, в крайнем случае, тяжелыми предметами, которые оказывались под рукой.
Одним из таких последних «благородных» поединков стала гибель Юры Соколова в драке с Ришатиком – боксером из Мурманска. Схватились они в квартире, которую Соколов получил от государства, когда стал чемпионом мира по дзюдо. Говорят, что поводом явилось нежелание Соколова падать под каких бы то ни было лидеров.
Когда в ОПГ оказалась шпана, у которой не было шансов против мастера спорта в рукопашном поединке, они стали пускать в ход оружие. Еще больше масла в огонь подлили «казанские», которые только и умели, что стрелять. Скоро все стали повторять слова, приписываемые Малышеву: «Сейчас кулаками ничего не решишь». Конечно, афоризм не тянет на нобелевку. До него и Аль Капоне уверял, что «добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом».
Когда в ОПГ оказалась шпана, у которой не было шансов против мастера спорта в рукопашном поединке, они стали пускать в ход оружие. Еще больше масла в огонь подлили «казанские», которые только и умели, что стрелять. Скоро все стали повторять слова, приписываемые Малышеву: «Сейчас кулаками ничего не решишь». Конечно, афоризм не тянет на нобелевку. До него и Аль Капоне уверял, что «добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом».
Петербург, 90-е
Блатные пытались увещевать молодежь, нажимая на эффективность дипломатии, умения вести диалог, на свой лад пересказывали детский рассказ «Тайное становится явным», но все-таки отступили, увидев бессмысленность этих уговоров.
Встречи больше не проходили в теплой товарищеской атмосфере. Братва выходила из машин молча, за руку здоровались только старшие. Остальные вставали полукругом, держа правую руку за пазухой. Деловая, конструктивная интонация стала уходить из разговоров. В споре выигрывал тот, кому удавалось запугать противника. Первое, что было важно – это количество людей и машин, которые подъезжали к месту встречи. Вторым фактором стало оружие.
Встречи больше не проходили в теплой товарищеской атмосфере. Братва выходила из машин молча, за руку здоровались только старшие. Остальные вставали полукругом, держа правую руку за пазухой. Деловая, конструктивная интонация стала уходить из разговоров. В споре выигрывал тот, кому удавалось запугать противника. Первое, что было важно – это количество людей и машин, которые подъезжали к месту встречи. Вторым фактором стало оружие.
Петербург, 90-е
В 1990 году пистолеты и автоматы перестали пылиться в офисах и ждать своего случая и превратились в обязательную часть рабочей униформы. В багажниках возили бронежилеты. Находчивые тут же вспомнили спартанский метод ведения переговоров: отправляли на них одного человека без машины и оружия. Десятки парней, к которым он подходил, чувствовали себя глупо. Переговорщик же вел себя дерзко, тем самым еще усиливая замешательство оппонента. Друзья одинокого дипломата тем временем прятались вокруг и наблюдали за происходящим, переписывали номера машин, а в острый момент, если он наступал, выходили из укрытия и застигали противника врасплох.
Стволы поначалу служили для запугивания, в крайнем случае из них стреляли по ногам, но долго на одних угрозах было не продержаться, они теряли действенность.
В 1991 году около десяти машин собралось на Медном озере. После резкой фразы один из старших достал ствол, его оппонент иронично заметил: «Достал, так стреляй» – и демонстративно подставил лоб. Пуля не испугалась лба.
Стволы поначалу служили для запугивания, в крайнем случае из них стреляли по ногам, но долго на одних угрозах было не продержаться, они теряли действенность.
В 1991 году около десяти машин собралось на Медном озере. После резкой фразы один из старших достал ствол, его оппонент иронично заметил: «Достал, так стреляй» – и демонстративно подставил лоб. Пуля не испугалась лба.
Тир
С пулями пошло точно также как с золотыми цепями, только быстрее. Если в храмы братва с гимнастами на груди повалит чуть попозже, то тренироваться в стрельбе она начала сразу же. Мотивации предельно понятны.
Какой бы ты ни был мастер спорта, но в Советском Союзе единицы не то что стреляли, а даже про охоту в лесу читали только у Михаила Пришвина. Вернее, не читали, а слышали про эти произведения. Исключение составляли только биатлонисты. Но спортсмены знали, как устроен их мир, и быстро вышли на тренеров в профессиональных тирах. Там работали бывшие чемпионы по стрельбе, они, как и многие прочие, перестали получать зарплату, государство и к ним потеряло интерес, и в их руках остались чуть ли не бесхозные полигоны.
Петербург, 90-е
В основном тренировки шли на Аптекарском острове, где на месте тира сегодня находится ресторан «Гинза». На Васильевском Среднем проспекте, где на том месте давно вырос клубный дом. Не остались без внимания и тиры при военных училищах. Идея договариваться с воинскими частями, расположенными в Ленинградской области, где можно было уже хоть на танке прокатиться, в голову пока не приходила.
Братва приходила со своим оружием, как правило с ТТ, а им ставили руку. Также их обучали лупить из винтовок. Здесь они справно платили за аренду, тренировки и боезапас. Притом слушались, ведь им говорили тренеры, пусть не своего спорта, но все равно «святые». Это было вбито с детства. А тренеры смотрели на это с грустью, но своих мальчиков не сдавали. Срабатывал классический мамин механизм – что бы ни случилось, ее сын не виноват, это его втянули в дурную компанию.
Братва приходила со своим оружием, как правило с ТТ, а им ставили руку. Также их обучали лупить из винтовок. Здесь они справно платили за аренду, тренировки и боезапас. Притом слушались, ведь им говорили тренеры, пусть не своего спорта, но все равно «святые». Это было вбито с детства. А тренеры смотрели на это с грустью, но своих мальчиков не сдавали. Срабатывал классический мамин механизм – что бы ни случилось, ее сын не виноват, это его втянули в дурную компанию.
Петербург, 90-е
Году так в 90-ом заслуженного тренера по вольной борьбе оскорбили буквально на трамвайной остановке. Причем еще и ударили. А сделали это какие-то молодые, представившие, что они уже стали бандитами. Тренер буквально со слезами вернулся в зал. Тех нашли. Борцы их прилюдно топили в Неве возле Высшей школы спортивного мастерства на Каменном острове. Топили, вынимали, вновь засовывали под воду. В этом было что-то религиозное, так как спортсмены делали это необычайно искренне. Наконец, их отпустили, но предупредили: «Если вдруг увидим хоть на какой-нибудь стрелке, тогда навсегда к рыбам».
Так что ученики продолжали чтить главных воспитателей в своей жизни. Пусть практически уже превратились в совершенно других существ.
Возвращаясь к тренировкам по стрельбе, можно смело сказать, что все это было зря потраченное время. Просто для спортсменов стрельба в тирах была в новинку, не более. Как дилетант, считающий, что если пару раз проехать на гоночной машине, станешь пилотом. В той стрельбе, что вскоре станет нормой на улицах, профессиональные навыки не имели никакого значения.
Важен был дух и цинизм. Мало кто думает, что мир давно имеет наработанную статистику уличной стрельбы. Она делится на гангстерские стычки и столкновения между полицейскими и преступниками. Так вот, средняя дистанция на этих дуэлях составляет от трех до пяти метров. То есть, вроде бы любой старшеклассник может попасть с этого расстояния. Да, но попасть в тире. На практике же все становится иначе.
Человек в таком состоянии видит, слышит и действует по-другому. Нервы, знаете ли. И чемпион мира по стендовой стрельбе в парадной может проиграть молодому пареньку, который вообще ни разу в жизни не стрелял. В таких ситуациях побеждает не мастерство, а внутренняя, заранее заготовленная решимость.
Поэтому первоначально вся стрельба в Петербурге и пошла в упор. Ждет исполнитель цель в парадной возле мусоропровода, слышит, как открываются створки лифта – и вся недолга. Или подходит к медленно паркующийся машине да лупит всю обойму в боковое стекло водителя. А еще лучше, если догнал и в спину.
Это чуть позже появятся те, кого армия научила бить из оптики, из гранатометов, хватать жертву короткими очередями из Калашникова. Они еще «висели на стене». Пока же они развлекались в тирах, а тренерам задавали идиотские вопросы, пронизанные даже не бандитским, а детским мировоззрением: «А вот, если что – Вы смогли бы с крыши, метров за 300 в кого-нибудь попасть?».
Лучшие, но бывшие стрелки СССР улыбались, отвечали, что это проще, чем они даже думают. Но отказывались: «Будем считать, что я этого не слышал».
Так что ученики продолжали чтить главных воспитателей в своей жизни. Пусть практически уже превратились в совершенно других существ.
Возвращаясь к тренировкам по стрельбе, можно смело сказать, что все это было зря потраченное время. Просто для спортсменов стрельба в тирах была в новинку, не более. Как дилетант, считающий, что если пару раз проехать на гоночной машине, станешь пилотом. В той стрельбе, что вскоре станет нормой на улицах, профессиональные навыки не имели никакого значения.
Важен был дух и цинизм. Мало кто думает, что мир давно имеет наработанную статистику уличной стрельбы. Она делится на гангстерские стычки и столкновения между полицейскими и преступниками. Так вот, средняя дистанция на этих дуэлях составляет от трех до пяти метров. То есть, вроде бы любой старшеклассник может попасть с этого расстояния. Да, но попасть в тире. На практике же все становится иначе.
Человек в таком состоянии видит, слышит и действует по-другому. Нервы, знаете ли. И чемпион мира по стендовой стрельбе в парадной может проиграть молодому пареньку, который вообще ни разу в жизни не стрелял. В таких ситуациях побеждает не мастерство, а внутренняя, заранее заготовленная решимость.
Поэтому первоначально вся стрельба в Петербурге и пошла в упор. Ждет исполнитель цель в парадной возле мусоропровода, слышит, как открываются створки лифта – и вся недолга. Или подходит к медленно паркующийся машине да лупит всю обойму в боковое стекло водителя. А еще лучше, если догнал и в спину.
Это чуть позже появятся те, кого армия научила бить из оптики, из гранатометов, хватать жертву короткими очередями из Калашникова. Они еще «висели на стене». Пока же они развлекались в тирах, а тренерам задавали идиотские вопросы, пронизанные даже не бандитским, а детским мировоззрением: «А вот, если что – Вы смогли бы с крыши, метров за 300 в кого-нибудь попасть?».
Лучшие, но бывшие стрелки СССР улыбались, отвечали, что это проще, чем они даже думают. Но отказывались: «Будем считать, что я этого не слышал».
Глава 22
ГРУППЫ КРОВИ
Модели
Управление братвой зависело от устоя, который внедрялся в каждый отдельный коллектив. Строй зависел от мироощущения лидера, от стереотипа поведения участников.
А этот фактор напрямую был связан с тем местом, где они родились и сформировались. Наиболее непривычная, даже неприятная модель была у «казанских». Где-то далеко в столице Татарии они давно поделились на уличные банды, а то, что в Ленинграде их всех считали некой единой сущностью, было проблемой ленинградцев. Когда в Ленинграде в 70-х годах шпана просто традиционно дралась на салютах, в Казани все было уже поделено на улицы. Каждый пацан знал все улицы Казани лучше таксиста – куда можно заходить, а куда не стоит. Все в прямом смысле делились на банды с четкой иерархией, традицией, животными правилами. В Казани они начинали междоусобную резню, а та переходила на группировки «казанских» в других городах. Понять этого никто не мог. Тем более, что Казань была единственным городом в России, где не могло быть ни одной неместной группировки. Даже в ближайших крупных городах с якобы схожими признаками, такими как, например, Саранск, Альметьевск, Набережные Челны, ничего похожего не было. Оттуда заезжали в Питер маленькими группами и вливались в чисто петербургские декорации. По отцу этногенеза, историку Льву Гумилеву, это степная модель. Такие топонимы как Воркута, Пермь, Омск, Архангельск, конечно, поставляли спортсменов, но и эти, в большинстве своем, имели сосланных, судимых родственников и отцов. Они как привыкли к лагерному духу, так никакие набережные Невы не могли его выветрить. Модель чисто уголовная, можно сказать, родная. А то, что в ней не было воров в законе, то это влияло лишь на подчинение черному миру. Вернее, на отсутствие такого подчинения. Ушедшие в братву из армии и создавшие свои коллективы, разумеется, привнесли военную модель. Это наблюдалось на первых порах у афганцев, у бывших сотрудников ОМОН и спецназа. Азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы, безусловно, продолжили черкесскую традицию, в которой славяне категорически не разбирались.
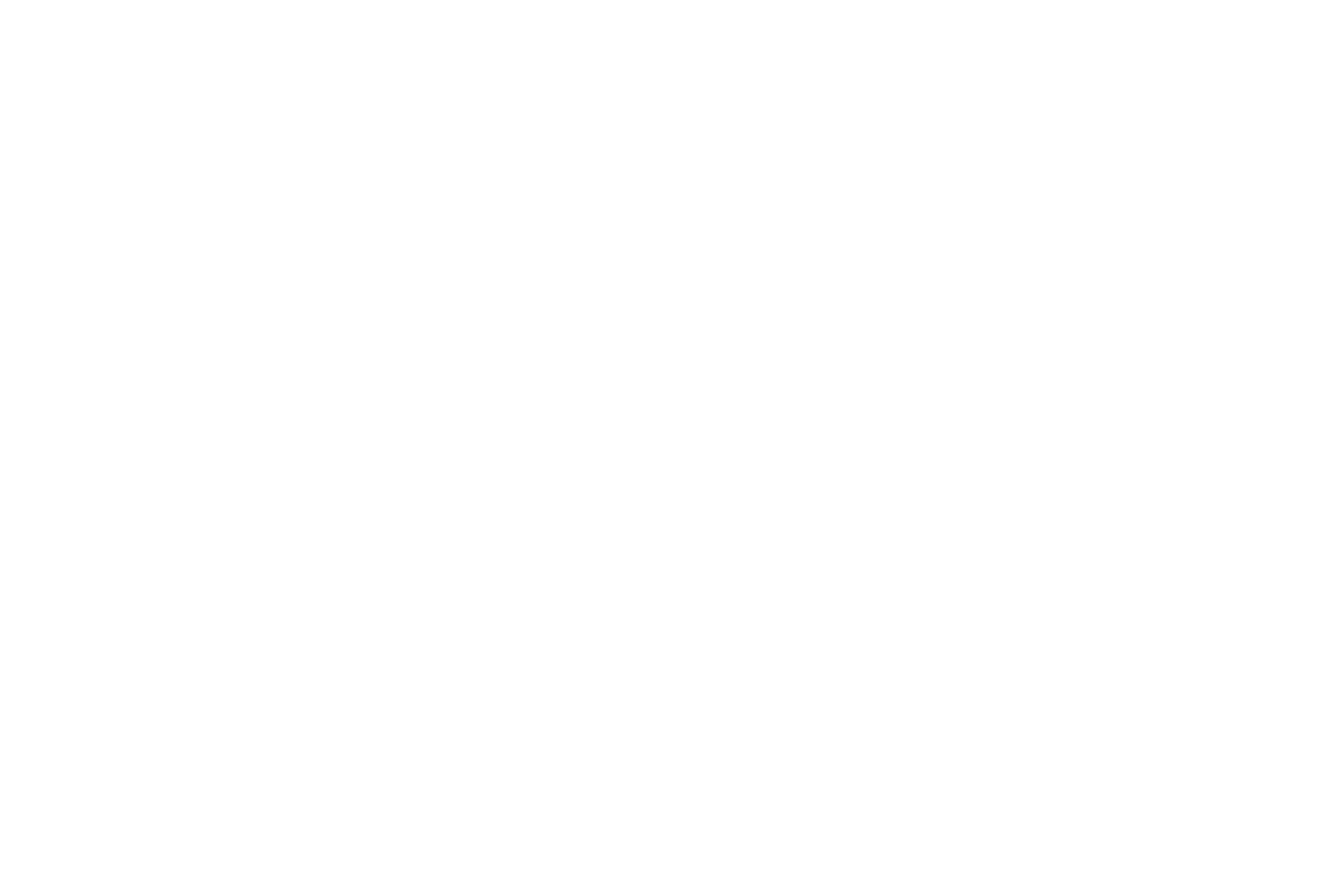
Представитель чеченцев, Петербург, 90-е
Другое дело, что в Петербурге они не смогли создать сколько-нибудь значимые коллективы. Со временем таких стало мало и, как говорится, да и тех не было. Дело в том, что когда они только-только, в году так 1990-ом впервые начали показывать зубы, их встретили очень жестко. Причем на встречи эти собирались гуртом со всех бригад. Были небольшие общности, которые не отказались от опыта и воспитания советского спорта. Там практически запрещалось выпивать, чуть ли не курить. А при малейшем запахе наркотиков человек изгонялся. Такие не посещали рестораны, клубы, бегали по утрам.
Нельзя забыть про одну крайне необычную группу, во главе которой встал Андрей-маленький. Он пришел из комсомольских вожаков районного уровня, набрал к себе демобилизованных солдат, повоевавших уже в Чечне, ввел дисциплину, в прямом смысле, подсмотренную в американских боевиках.
Так, за нарушения там могли отрезать палец. Примерно то же самое случилось и в истории с бывшим партийным работником, а потом временно помощником Собчака Юрием Шутовым. Заместителем у него был герой Афганистана Гимранов, они преуспели в убийствах и чужих, и своих, были бессмысленно жестоки. Партийная модель.
Нельзя забыть про одну крайне необычную группу, во главе которой встал Андрей-маленький. Он пришел из комсомольских вожаков районного уровня, набрал к себе демобилизованных солдат, повоевавших уже в Чечне, ввел дисциплину, в прямом смысле, подсмотренную в американских боевиках.
Так, за нарушения там могли отрезать палец. Примерно то же самое случилось и в истории с бывшим партийным работником, а потом временно помощником Собчака Юрием Шутовым. Заместителем у него был герой Афганистана Гимранов, они преуспели в убийствах и чужих, и своих, были бессмысленно жестоки. Партийная модель.
Наконец, от тактики перейдя к стратегии, закрепим две основные модели, которые и повлияли на весь ход на будущем театре военных действий. Конечно, в данном случае, эти ключевые модели покоятся на именах двух основных явлений Петербурга – Малышеве и Кумарине. Но они отличаются до уровня «мужчина-женщина».
Малышев, вернее вокруг Малышева сложилась горизонтальная вертикаль. То есть он был первым среди равных. Его уважали или обязаны были уважать, с ним все «подписали» пакт на случай войны с агрессором и в случае глобального противостояния с кем-то, а все понимали, что с «тамбовскими», под его знамена все феодалы должны были собраться вместе со своими ратниками. К его мнению очень даже прислушивались, но у каждого был уже свой замок со своим хозяйством, и дань Малышеву они не платили. Это можно считать демократической моделью.
Малышев, вернее вокруг Малышева сложилась горизонтальная вертикаль. То есть он был первым среди равных. Его уважали или обязаны были уважать, с ним все «подписали» пакт на случай войны с агрессором и в случае глобального противостояния с кем-то, а все понимали, что с «тамбовскими», под его знамена все феодалы должны были собраться вместе со своими ратниками. К его мнению очень даже прислушивались, но у каждого был уже свой замок со своим хозяйством, и дань Малышеву они не платили. Это можно считать демократической моделью.
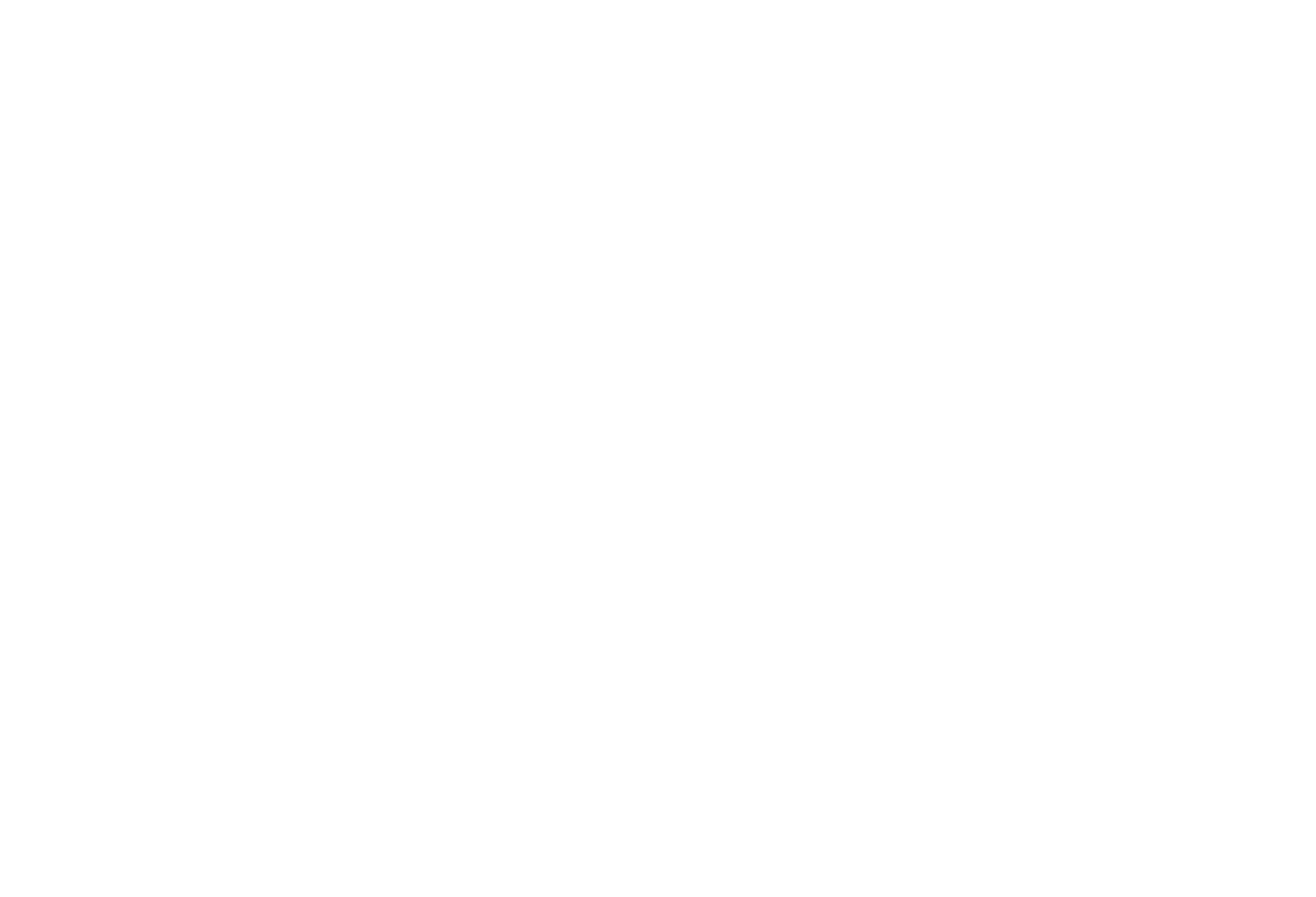
Малышев справа
Кумарин же был совершенно другой. Он выстроил классическую вертикаль: он, заместители, начальники департаментов и так далее. Он вникал даже в решения тактических вопросов. Соответственно, и его казна пополнялась по федеральному признаку. Абсолютно монархическая история.
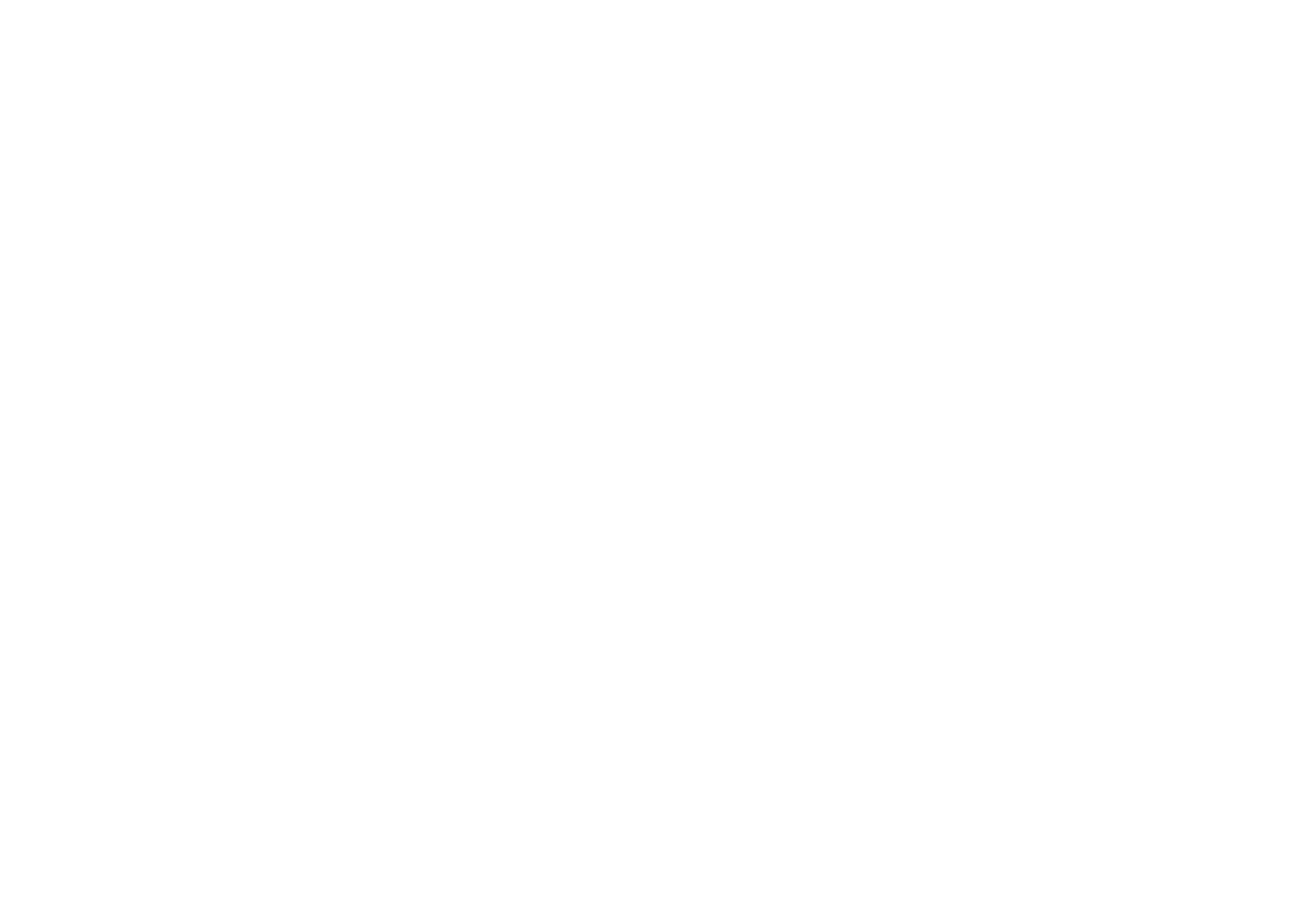
Кумарин и барышни
Малышевские же обложили окраины. Прежде всего, Красносельский район. Потом даже появилась целая бригада – «красноселы». Можно вскипеть от изучения причин – отчего Кум захватил центр, а Малыш - новостройки, но на мой взгляд все проще.
Кумарин приехал в Ленинград поступать в институт. То есть, он провинциал, а любой нормальный такой стремится посмотреть на центр города. Другое дело, что Кумарин усерден и талантлив. Он и газеты читал, и на витрины смотрел внимательно. Малышев же, может и родился в Псковской губернии, а начинает помнить себя только с той поры, когда его отцу – мастеровому дали комнату на углу Лиговки и Обводного, а потом за высокие достижения на производстве отмерили квартирку в самом конце Ленинского проспекта. То есть Малышев – ленинградец, но с окраин. А таким всегда милей высотка в Купчино, чем проходной двор на Петроградке. Их схватка была бы похожа на битву гиганта с титаном. Но она так и не состоялась.
Кумарин приехал в Ленинград поступать в институт. То есть, он провинциал, а любой нормальный такой стремится посмотреть на центр города. Другое дело, что Кумарин усерден и талантлив. Он и газеты читал, и на витрины смотрел внимательно. Малышев же, может и родился в Псковской губернии, а начинает помнить себя только с той поры, когда его отцу – мастеровому дали комнату на углу Лиговки и Обводного, а потом за высокие достижения на производстве отмерили квартирку в самом конце Ленинского проспекта. То есть Малышев – ленинградец, но с окраин. А таким всегда милей высотка в Купчино, чем проходной двор на Петроградке. Их схватка была бы похожа на битву гиганта с титаном. Но она так и не состоялась.
Счастье. Николай Картов

«В Казани уже в 80-х годах школьники привыкли к убийствам. Перед набегом на чужаков старшие давали план; сколько отправить в реанимацию, сколько – в морг. В 14 лет они иногда приходили на похороны своих сверстников, забитых арматурой. Правила поведения в бандах были убийственны – если ты один, а на тебя бегут десять, ты не можешь убегать – стой. Каждый пацан имел уже свою точку, когда еще было все государственное. Например, мы с моим другом, являясь участниками одной группировки, всегда бесплатно ели в государственной столовой. Иначе в этой столовой могло что-нибудь произойти. Кому-то, допустим, платил хозяйственный магазин. И это все было до того, как в СССР и в России узнали, что есть слово «рэкет».
Притом на своей территории мы устанавливали честный порядок, а на других можно было вести себя, как хочешь. И так все и везде. В масштаб того, что началось в конце перестройки, вы никогда не поверите. Деревья на центральных улицах валили, чтобы машины других группировок не могли проехать. Из окон машин же стреляли на ходу. Позже, вернее, уже теперь я подсчитал, что в нашей группировке при мне – школьнике состояло 48 человек. В какой? Не хочу улицу называть – у нас до сих пор многое не зажило. Так вот, 48 человек – это 12-летних на тот момент, к середине 80-х. А сегодня в живых осталось 18 человек и то – 6 человек до сих пор находятся в лагерях. Остальные добрались до нормальной жизни. Есть парень, хотя, конечно, какой он парень, в прокуратуре Татарстана, есть тот, что в мэрии Москвы. Меня же спасла милиция, куда я попал. Это вообще отдельная история. Мы же все вместе орудовали, а потом некоторые служили в милиции и, разумеется, относились к бандам в зависимости от того, кто где жил. Так что милиция Казани тоже, можно сказать, делилась на банды.
Сила Казани была в том, что там работали только местные группировки.
Притом на своей территории мы устанавливали честный порядок, а на других можно было вести себя, как хочешь. И так все и везде. В масштаб того, что началось в конце перестройки, вы никогда не поверите. Деревья на центральных улицах валили, чтобы машины других группировок не могли проехать. Из окон машин же стреляли на ходу. Позже, вернее, уже теперь я подсчитал, что в нашей группировке при мне – школьнике состояло 48 человек. В какой? Не хочу улицу называть – у нас до сих пор многое не зажило. Так вот, 48 человек – это 12-летних на тот момент, к середине 80-х. А сегодня в живых осталось 18 человек и то – 6 человек до сих пор находятся в лагерях. Остальные добрались до нормальной жизни. Есть парень, хотя, конечно, какой он парень, в прокуратуре Татарстана, есть тот, что в мэрии Москвы. Меня же спасла милиция, куда я попал. Это вообще отдельная история. Мы же все вместе орудовали, а потом некоторые служили в милиции и, разумеется, относились к бандам в зависимости от того, кто где жил. Так что милиция Казани тоже, можно сказать, делилась на банды.
Сила Казани была в том, что там работали только местные группировки.
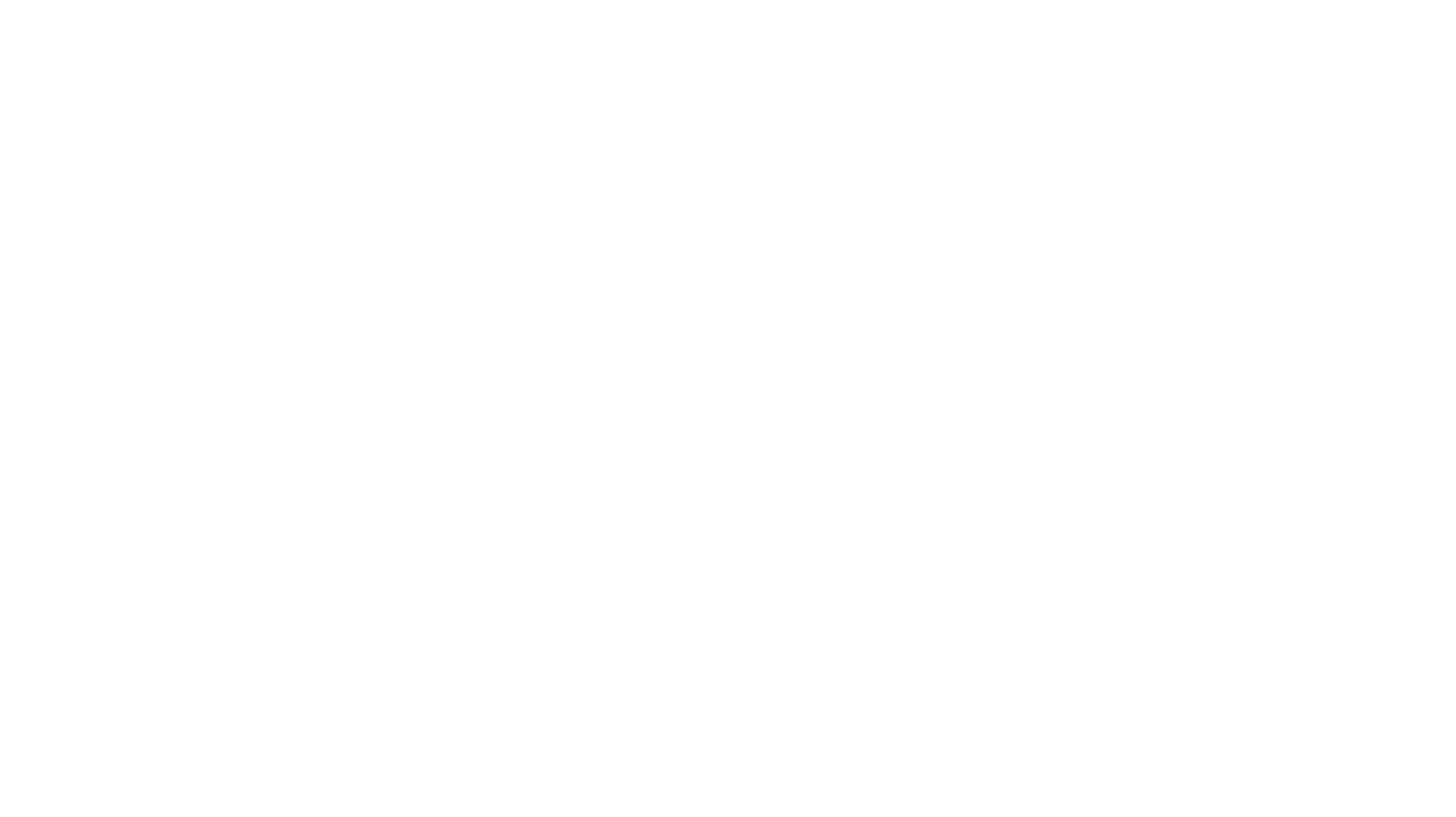
«Казанские», гостиница Прибалтийская, Петербург, 90-е
Никто никогда не получил ни копейки из приезжих, какого бы масштаба, авторитета или национальности он ни был. Слабость же состояла в том, что внутри всегда шли такие распри, такая лилась кровь, что даже самые лютые и хитрые, как Хайдер, Раджа или, допустим, Линар с Радиком-Драконом, не могли Казань объединить. Если бы это все же произошло, то случилось бы реально страшное для страны. Это было бы настоящее нашествие в разные регионы, прежде всего в Москву и Питер, осмысленное и беспощадное.
Тогда надо было бы просто собирать батальоны злых внутренних войск и всех отстреливать во внесудебном порядке. Иначе никак было бы не справиться.
Страшно подумать, но я сам когда-то искренне считал, что это счастье, что я родился в Казани. Это единственный пацанский город в мире».
Тогда надо было бы просто собирать батальоны злых внутренних войск и всех отстреливать во внесудебном порядке. Иначе никак было бы не справиться.
Страшно подумать, но я сам когда-то искренне считал, что это счастье, что я родился в Казани. Это единственный пацанский город в мире».
Элита
Как и при феодализме, элита возникает совместно с войной и становится отдельной исторической силой, а потом уже возникает финансовая элита, превращаясь в лидера игры. На первом же этапе коммерсанты вторичны. То есть сначала все пытаются друг друга убить, а потом все друг друга надуть.
Идеал
К 1990 году, уже давно ставший петербургским кодом Юрий Шевчук сшивает альбом «Оттепель», где одним их хитов признается сингл «Мама, я любера люблю!».
Конечно, это отсылка еще к уличной частушке чуть ли не 20-х годов. «Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю». Любой народный шлягер время от времени подвергался изменениям. Например, в сталинские годы, когда героем времени априори был полярник, летчик, артиллерист, народ сделал так: «Мама, я за летчика пойду!». Это своего рода короткое «яблочко»: «Не за Ленина, да не за Троцкого, А за матросика краснофлотского!» Так что Шевчук принципиально сменяет жулика на сменившего его братана.
«Он не панк, он не хиппи… не мажор, не тусовщик …
Он отделает любого теоретика кунг-фу
Он за железный порядок, он почти без наколок …».
Не ясновидение, а попадание в реальность.
«Он не панк, он не хиппи… не мажор, не тусовщик …
Он отделает любого теоретика кунг-фу
Он за железный порядок, он почти без наколок …».
Не ясновидение, а попадание в реальность.
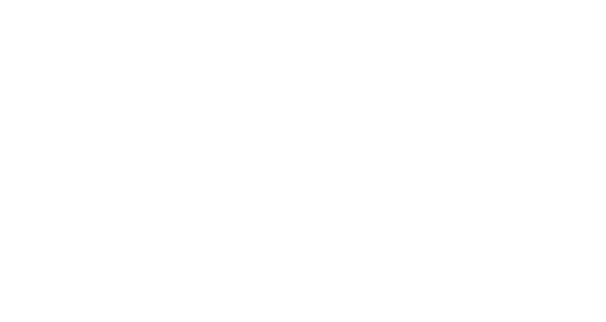
(с) pastvu.com. Юрий Шевчук во дворе "Ленфильма", 1990-е гг. Автор:О.Моисеев
Глава 23
БРАТВА ГОТОВА
К бандитизму готовы
В принципе, вот и весь психологический портрет.
В РСФСР всегда была статья Уголовного кодекса №77 «Бандитизм». «Организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях - наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».
В РСФСР всегда была статья Уголовного кодекса №77 «Бандитизм». «Организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях - наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».
Но уже с послевоенных времен бандитизма в СССР, действительно, не было. В головах граждан этот термин больше ассоциировался с басмачами в Средней Азии. Но порой это слово вырывалось даже в печать.
В 1983 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Грачи».
В 1983 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Грачи».
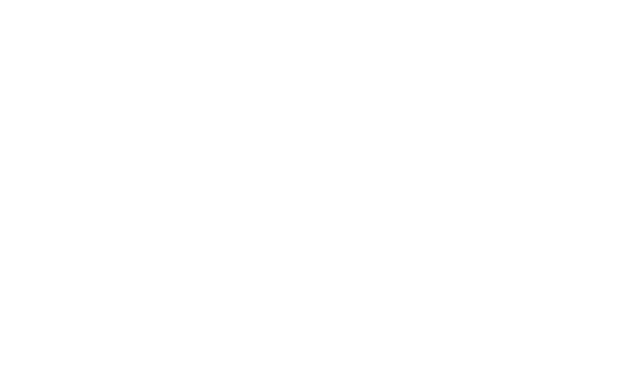
(с) кадр из фильма "Грачи" (СССР, 1983 г.)
В основу легла подлинная история братьев Билык и их родственников. Они орудовали в Краснодарском крае, убивали на трассах владельцев машин, грабили сберкассы, на их счету жизни милиционеров. Одного из членов банды убили при задержании, Билыка-старшего расстреляли по приговору, младшему отмерили 15 лет.
Важно же то, что санкцию на возбуждение уголовных дел по этой редчайшей в 70-80-х годах статье давали наивысшие партийные органы. То есть признание такой аномалии являлось вопросом политическим.
Термин «бандит» быстро прикрепился и к рэкетирам. Это был синоним американскому «гангстеру». Просто «гангстер» звучит более стильно. Да и одевались они в лучшие костюмы от лучших домов, покуривая сигары под ритмы свинга. Наши же сидели отечественно – в кожанках, спортивной униформе, а вместо джаза таких, как Гленн Миллер, в их уши летела какофония дискотеки 80-х от другого Миллера – Стива. Хит времени – шлягер «Абракадабра»: «Я воспламеняюсь, я не могу остыть, я попал в замкнутый круг». И так каждый вечер и, как говорил мой знакомый замполит: «Под хохот полногрудых девиц западного пошиба».
Так что вроде братва тоже была вооружена, и причем намного лучше тех прошлых советских бандитов, но в отличие от прежних они и не скрывали ни своей принадлежности к группировкам, ни образа жизни. Бандит же тот, кто прячется в лесу с топором, ожидая проезжего купца, тот кто налетает всадниками на деревню, где только что отстроили школу или тот, кто убивает инкассатора, а потом как ни в чем не бывало приходит на работу, изображая мирно пашущий трактор. А братва же на каждом углу подчеркивала. Но сами они себя так не называли. Это им не нравилось. Рэкетиром тоже себя называть не изящно, кстати, это слово и не прижилось, хотя в 1989 году на «Ленфильме» начали сниматься 15 серий именно с названием «Рэкет», а вышел сериал в 1992-ом.
Важно же то, что санкцию на возбуждение уголовных дел по этой редчайшей в 70-80-х годах статье давали наивысшие партийные органы. То есть признание такой аномалии являлось вопросом политическим.
Термин «бандит» быстро прикрепился и к рэкетирам. Это был синоним американскому «гангстеру». Просто «гангстер» звучит более стильно. Да и одевались они в лучшие костюмы от лучших домов, покуривая сигары под ритмы свинга. Наши же сидели отечественно – в кожанках, спортивной униформе, а вместо джаза таких, как Гленн Миллер, в их уши летела какофония дискотеки 80-х от другого Миллера – Стива. Хит времени – шлягер «Абракадабра»: «Я воспламеняюсь, я не могу остыть, я попал в замкнутый круг». И так каждый вечер и, как говорил мой знакомый замполит: «Под хохот полногрудых девиц западного пошиба».
Так что вроде братва тоже была вооружена, и причем намного лучше тех прошлых советских бандитов, но в отличие от прежних они и не скрывали ни своей принадлежности к группировкам, ни образа жизни. Бандит же тот, кто прячется в лесу с топором, ожидая проезжего купца, тот кто налетает всадниками на деревню, где только что отстроили школу или тот, кто убивает инкассатора, а потом как ни в чем не бывало приходит на работу, изображая мирно пашущий трактор. А братва же на каждом углу подчеркивала. Но сами они себя так не называли. Это им не нравилось. Рэкетиром тоже себя называть не изящно, кстати, это слово и не прижилось, хотя в 1989 году на «Ленфильме» начали сниматься 15 серий именно с названием «Рэкет», а вышел сериал в 1992-ом.
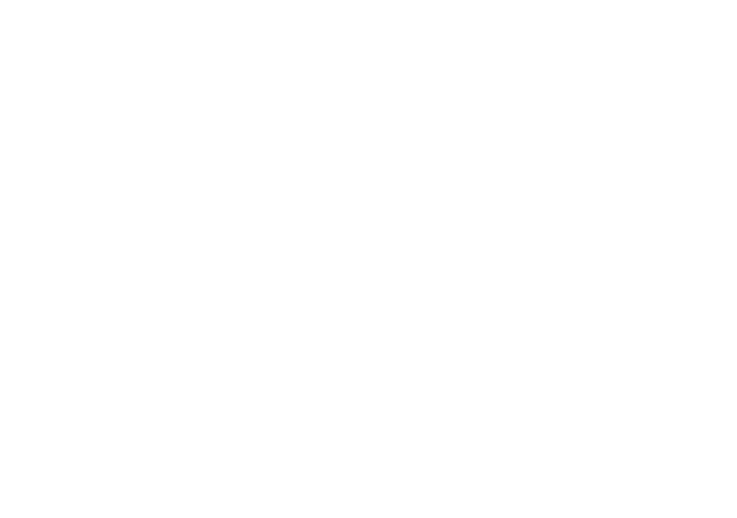
(с) кадр из фильма "Рэкет" (1992 г.)
Прошлое позиционирование через прелестное слово «движение» подзабыли, и осталась одна братва. Тогда вся братва так себя и называла, как-то же надо было называть.
Сегодня же это приобрело даже не саркастический, а шутливый, добрый, приветливый оттенок. Да в каждом офисе кто-то может сказать: «Привет, братва». Но он уже обращается чуть ли не к хипстерам.
Сегодня же это приобрело даже не саркастический, а шутливый, добрый, приветливый оттенок. Да в каждом офисе кто-то может сказать: «Привет, братва». Но он уже обращается чуть ли не к хипстерам.
Стрела. Девяткино размножается
ППШ, который был в руках у Слона в Девяткино, достал для него Гена Ростовский у черных следопытов. Любое огнестрельное оружие было редкостью.
То, что 18 декабря 1988 года между бывшими спортсменами произошло вооруженное противостояние, им самим казалось чем-то исключительным. Уже через месяц после конфликта они перестали даже огрызаться друг на друга, никто не собирался никому мстить. И все-таки, как только возникло словосочетание «мой кооператор» или «мой коммерс», между вымогателями стали постоянно происходить стычки. Мой «коммерс», мой «мерс» …
Схема, случайно изобретенная Малышевым, когда представители двух сообществ назначали встречу на определенное время с целью разрешения спорной ситуации, стала использоваться регулярно. Появилось выражение «забить стрелку», которое буквально означало «назначить определенное время для выяснения отношений». Первое время стрелки были мирными, сторонам удавалось без применения силы найти приемлемый для всех выход из положения. Спортсмены пока ощущали не то чтобы взаимные симпатии, но некую общность, не дающую им без особого повода вести себя агрессивно. Участники могли несколько лет назад заниматься у одного тренера. Они все еще при встрече обнимали друг друга. Трудно было поверить в то, что им не удастся договориться по-хорошему. Однако рано или поздно должны были возникнуть ситуации, когда никто не мог уступить. Их нельзя было разрешить иначе, кроме как с применением физической силы.
Спортсмены стали говорить про некоторые стрелки, что съезжаются «бампер в бампер», что, с одной стороны, просто соответствовало действительности, а с другой - было калькой с выражения спортивного комментатора Николая Озерова «кость в кость», подразумевающего бескомпромиссную игру в хоккее. Все чаще и чаще встречи заканчивались драками и, соответственно, тем, что их участники оказывались в больнице. Бейсбольные биты в городе еще не продавались, так что рэкетиры либо кроили друг друга по старинке – кулаком, либо пускали в ход арматуру. Самым популярным орудием стали дубовые ножки от столов из гостиницы «Октябрьская». Они мало того, что были тяжелыми, так еще и легко откручивались. Крепкие ребята заходили в гостиницу вчетвером, заказывали у официанта кофе, потом поднимали коленями столешницу, выкручивали все четыре ножки, складывали стол со скатертью на пол и исчезали. Этим ножкам суждено было разбить сотни лбов и десятки стоек «жигулей».
В самый разгар этой бойни в городе практически в открытой продаже появилось огнестрельное оружие, которое привозили из Прибалтики и из Ленинградской области, из расквартированных в Сертолово армейских дивизий.
Схема, случайно изобретенная Малышевым, когда представители двух сообществ назначали встречу на определенное время с целью разрешения спорной ситуации, стала использоваться регулярно. Появилось выражение «забить стрелку», которое буквально означало «назначить определенное время для выяснения отношений». Первое время стрелки были мирными, сторонам удавалось без применения силы найти приемлемый для всех выход из положения. Спортсмены пока ощущали не то чтобы взаимные симпатии, но некую общность, не дающую им без особого повода вести себя агрессивно. Участники могли несколько лет назад заниматься у одного тренера. Они все еще при встрече обнимали друг друга. Трудно было поверить в то, что им не удастся договориться по-хорошему. Однако рано или поздно должны были возникнуть ситуации, когда никто не мог уступить. Их нельзя было разрешить иначе, кроме как с применением физической силы.
Спортсмены стали говорить про некоторые стрелки, что съезжаются «бампер в бампер», что, с одной стороны, просто соответствовало действительности, а с другой - было калькой с выражения спортивного комментатора Николая Озерова «кость в кость», подразумевающего бескомпромиссную игру в хоккее. Все чаще и чаще встречи заканчивались драками и, соответственно, тем, что их участники оказывались в больнице. Бейсбольные биты в городе еще не продавались, так что рэкетиры либо кроили друг друга по старинке – кулаком, либо пускали в ход арматуру. Самым популярным орудием стали дубовые ножки от столов из гостиницы «Октябрьская». Они мало того, что были тяжелыми, так еще и легко откручивались. Крепкие ребята заходили в гостиницу вчетвером, заказывали у официанта кофе, потом поднимали коленями столешницу, выкручивали все четыре ножки, складывали стол со скатертью на пол и исчезали. Этим ножкам суждено было разбить сотни лбов и десятки стоек «жигулей».
В самый разгар этой бойни в городе практически в открытой продаже появилось огнестрельное оружие, которое привозили из Прибалтики и из Ленинградской области, из расквартированных в Сертолово армейских дивизий.
Петербург, 90-е
Только с одного из складов эстонской воинской части ПВО в те дни было украдено 43 автомата Калашникова и 261 пистолет Макарова. На Апрашке продавали новые, «в масле» АКМ по 1200 долларов и ПМ по 500. Кроме этих, самых ходовых товаров, можно было достать гранаты и даже гранатометы. Наши герои стали скупать это добро цинковыми ящиками. Разумеется, они не думали о том, что будут стрелять друг в друга, но ствол за пазухой придавал уверенности на случай драки, а как только он появился у одного, пошла цепная реакция. Началась гонка вооружений. Иногда боеприпасы покупали вообще без практической цели, исключительно из любопытства. Одна компания борцов как-то приобрела ящик гранат. Вернее, нашла его у своей кооператорши Марго, которая имела магазин возле станции метро «Площадь Восстания». Поехали в ЦПКиО посмотреть, как они будут взрываться. Они одну за другой бросали их, не забыв вынуть чеку, на лед замерзшего пруда, и ни одна не разорвалась. Вскоре к ним подошел постовой из будки и возмущенно воскликнул: «Кто тут за вами убирать будет!»
Петербург, 90-е
Самую одиозную покупку совершил Владимир Кумарин. На стоянке у аэропорта «Пулково-2» он хвастался полутораметровым авиационным пулеметом, снятым с истребителя МИГ. Это устройство стреляло не пулями, а маленькими снарядами, способными пробить стену пятиэтажного дома. Никто, включая самого Кумарина, не знал, как им можно было бы воспользоваться. Даже для того, чтобы просто вынуть его из машины и привести в действие, понадобился специалист и несколько минут времени.
Но все это перегибы на местах. Главное – нам понять, от какого слова произошел всем ясный термин «стрелка». Ну не от часов же, мол, во сколько договариваемся. И не от Стрелки на Васильевском острове. Это производное от существительного «стрелок». В основе же глагол «стрелять». И если ты не готов стрелять – идти до конца, тебе нечего там делать.
Но все это перегибы на местах. Главное – нам понять, от какого слова произошел всем ясный термин «стрелка». Ну не от часов же, мол, во сколько договариваемся. И не от Стрелки на Васильевском острове. Это производное от существительного «стрелок». В основе же глагол «стрелять». И если ты не готов стрелять – идти до конца, тебе нечего там делать.
Аргумент. Сергей Родов

«Я имел отношение к организованной преступности. С четвертого класса я уже занимался спортом. Вначале дзюдо, но не мое – не пошло. Потом боксом. К концу восьмого класса уже было по пять тренировок в день. Придешь из школы – поспишь пару часов и на тренировку. Школа мне была неинтересна, как и большинству тех парней, с которыми мы тренировались. После восьмилетки поступил в 115-е ПТУ от Метрополитена. Мне даже преподаватели советовали окончить училище с золотой медалью. Но мне это было незачем. Все время проводил в спортзалах. И улица, конечно, а на коктейли в барах немного не хватало. Наверное, я раздолбай. После училища поступил в Институт физической культуры имени Лесгафта. Нас училось около двадцати пяти боксеров. Учиться было даже интересно, химию только мало кто понимал.
Это был уже 90 год. И все, кто хотел пойти в движение на улицу – пошли. Из двадцати пяти боксеров в братве, так или иначе, оказалось человек пятнадцать-восемнадцать. Это уж точно. Даже тренеры некоторые примыкали. Моего тренера со «Светланы» тоже заманили, но он пару раз съездил на стрелки и сказал – не мое. А вот тренер Артура Кжижевича участвовал в темах.
Темы нарисовывались случайно. Хаос. Мы слышали, конечно, о Кумарине, Малышеве, Ефиме. Но мы – молодежь в те времена. А они как генералы.
Это был уже 90 год. И все, кто хотел пойти в движение на улицу – пошли. Из двадцати пяти боксеров в братве, так или иначе, оказалось человек пятнадцать-восемнадцать. Это уж точно. Даже тренеры некоторые примыкали. Моего тренера со «Светланы» тоже заманили, но он пару раз съездил на стрелки и сказал – не мое. А вот тренер Артура Кжижевича участвовал в темах.
Темы нарисовывались случайно. Хаос. Мы слышали, конечно, о Кумарине, Малышеве, Ефиме. Но мы – молодежь в те времена. А они как генералы.
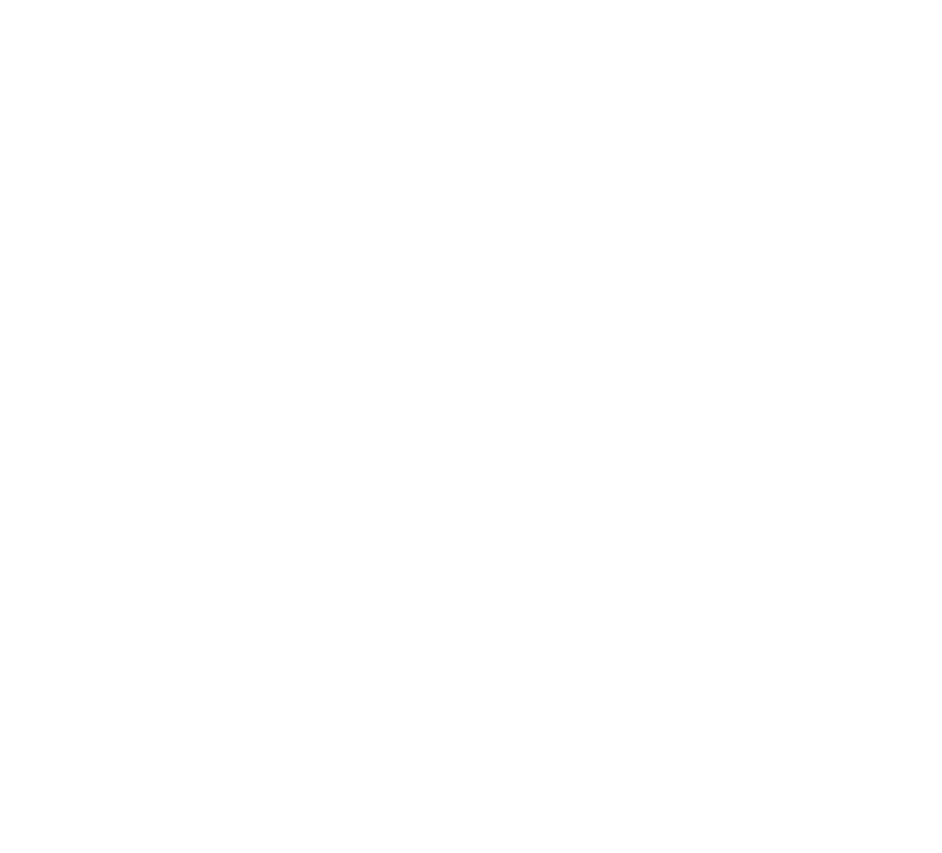
Когда-то в Петербурге его все звали Ефим или Фима-банщик. Когда в «нулевых» власть окрепла, он понарошку, но переоделся. Тогда просто генералы были другие.
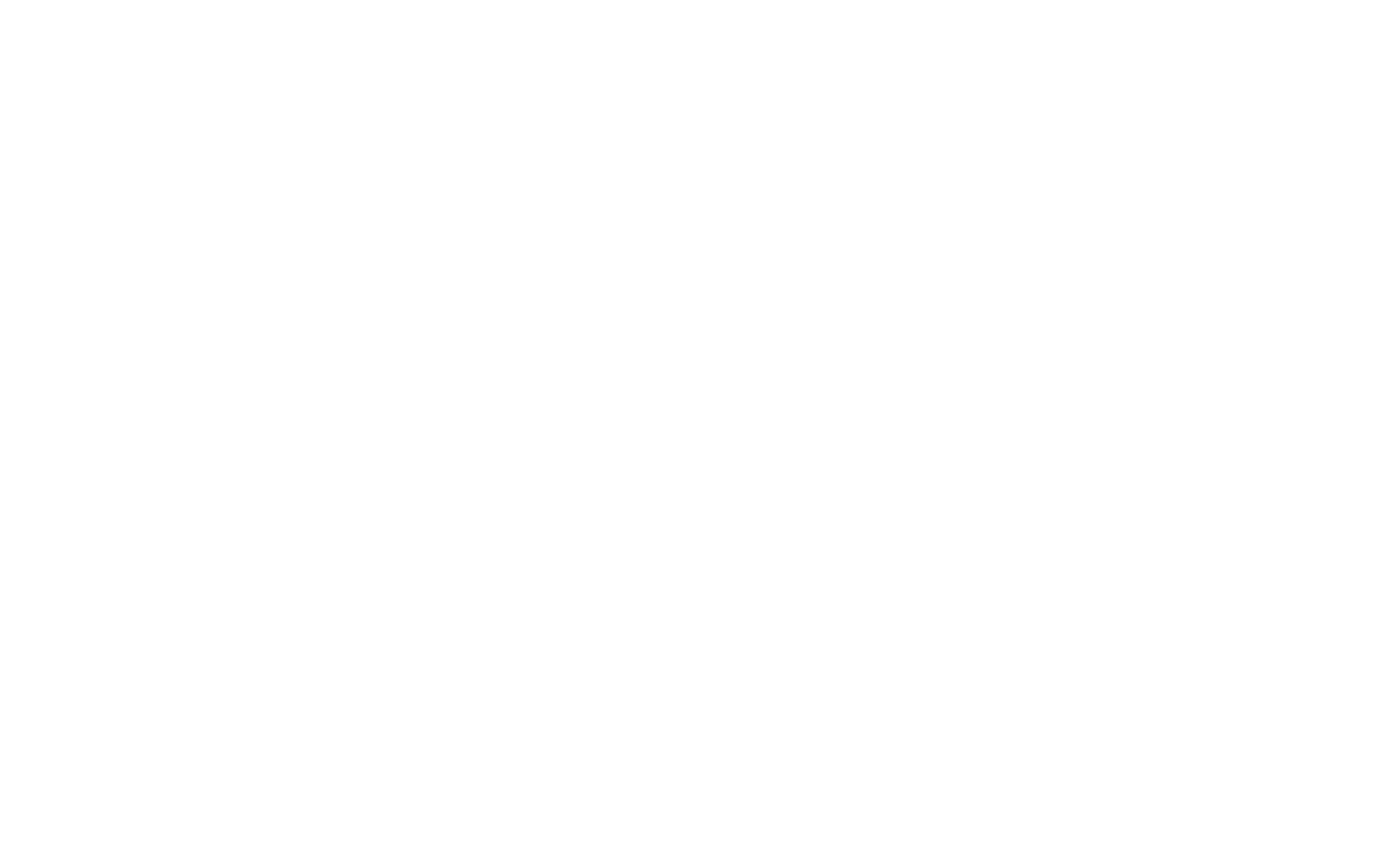
Прозвище Генерал, бригада Акулы, сообщество Малышева, Петербург, 90-е
Поэтому начинали окучивать кооператоров там, где увидим, где случайно найдем. На Московском вокзале кто-то показал спекулянтов, которые проводников снабжают – пришли – наехали. Они сперва огрызались, даже из газового оружия стреляли. Куда там – пару раз в бороду дали, и все. Милиция местная нас знала. Идешь – они навстречу – привет – привет. Иногда только с ними ссорились – как-то поперек них набедокурили – очевидно, их кооператора расчехлили, так они поддали нам. Правда, в кабинетах. Но бить не умеют. Потом отпустили, погрозив.
Время было бестолковое – многое делали не зачем, а потому, что идея пришла в голову. Как-то на стрелку плевую пришли втроем – смотрим, вокруг братва напряженная собирается. Хорошо, что к нам наш знакомый боксер подошел от них и говорит: «А я думаю, что рожи знакомые, хорошо, вспомнил, а то вас гасить уже собрались». Так что особенного братства не наблюдал. Как-то на нас с двумя «калашами» прыгнули – опять же хорошо, что меня боксер знакомый признал. После этого пошли на Сенной рынок – там знакомые парни «воркутинские» промышляли. Говорим, а где ствол купить можно? Они, мол, вон спекулянты стоят, у них газовое оружие, переделанное под боевое. Мы подошли – спросили – они подтвердили – мы в бороду дали им и стволы забрали.
Так покуролесили немного, а потом прибились к солидным грядкам, где вертикаль, дисциплина. Так что с 1988 года уже все те спортсмены, кто хотел, могли влиться в рэкет, а пальба началась где-то с 1992–1993 года. Мне кажется, начали стрелять не боксеры, а тот, кто уступал спортсменам в единоборстве. А после первых залпов стало ясно, что «смит и вессон» – аргумент посильнее правильно летящего кулака».
Время было бестолковое – многое делали не зачем, а потому, что идея пришла в голову. Как-то на стрелку плевую пришли втроем – смотрим, вокруг братва напряженная собирается. Хорошо, что к нам наш знакомый боксер подошел от них и говорит: «А я думаю, что рожи знакомые, хорошо, вспомнил, а то вас гасить уже собрались». Так что особенного братства не наблюдал. Как-то на нас с двумя «калашами» прыгнули – опять же хорошо, что меня боксер знакомый признал. После этого пошли на Сенной рынок – там знакомые парни «воркутинские» промышляли. Говорим, а где ствол купить можно? Они, мол, вон спекулянты стоят, у них газовое оружие, переделанное под боевое. Мы подошли – спросили – они подтвердили – мы в бороду дали им и стволы забрали.
Так покуролесили немного, а потом прибились к солидным грядкам, где вертикаль, дисциплина. Так что с 1988 года уже все те спортсмены, кто хотел, могли влиться в рэкет, а пальба началась где-то с 1992–1993 года. Мне кажется, начали стрелять не боксеры, а тот, кто уступал спортсменам в единоборстве. А после первых залпов стало ясно, что «смит и вессон» – аргумент посильнее правильно летящего кулака».
Папа, купи мне
Всего через пару лет ствол у братвы на заднем сиденье автомобиля будет выглядеть так же естественно, как бутылка газировки.
Одно из свидетельств этому – подслушанный в 1991 году телефонный разговор одного бригадира и сохранившийся до сегодняшнего дня в виде стенограммы (приведена дословно):
«Инициатор разговора Кира - жена «МН», просит «МН» купить сыну жвачку, затем передает трубку сыну – «А»:
А – Папа, купи мне жвачку и автомат.
МН – Зачем тебе автомат?
А – Такой же, как у тебя в машине лежит.
МН – Это не автомат, а пистолет.
А – Пистолет.
МН – Хорошо».
Сегодня многие из тех, кто вновь стали нормальными людьми, не знают, что теперь рассказать детям.
«Инициатор разговора Кира - жена «МН», просит «МН» купить сыну жвачку, затем передает трубку сыну – «А»:
А – Папа, купи мне жвачку и автомат.
МН – Зачем тебе автомат?
А – Такой же, как у тебя в машине лежит.
МН – Это не автомат, а пистолет.
А – Пистолет.
МН – Хорошо».
Сегодня многие из тех, кто вновь стали нормальными людьми, не знают, что теперь рассказать детям.
Глава 24
БУНТ СТАРОВЕРОВ
Путч
Наконец, августовский путч 1991 года расставил знаки препинания в нужных местах. Мы приехали утром на работу в уголовный розыск все такие возбужденные. Ничего никто не понимает, но интересно жутко.
Походили, пообменивались одинаковыми бреднями и ждем приказов. И их дали. Оружие сдать, каждому найти бутылку с бензином и держать ее возле сейфов с делами агентов на пожарный случай, если революционные массы ворвутся и начнут все крушить и грабить. Задумчивые, мы разбрелись по кабинетам. Не то чтобы мы были за путч или против него, просто в этом было что-то позорное. Сдались еще до того, как противник стал атаковать.
Поматерясь, перекрестясь, наша группа «ух» пошла прогуляться по Невскому, чтобы хоть не сидеть в ожидании разъяренной толпы.
Невский же жил своей обычной жизнью и все шло своим чередом. Карманники крали, жулики облапошивали, спекулянты наживались. Центровой Ленин, как всегда, скупал валюту на Думе. Никакой политики, только нажива. Раздав кому-то затрещины и поболтав с солидными аферистами, мы припарковались к гостинице «Астория». Это сегодня там типично шикарно-дорого, а тогда туда кроме элитных проституток и дипломатов мало кого пускали.
На первом этаже, за столиками мы наткнулись на два бодрых коллектива. Там уже заседало несколько омоновцев и воркутинских. Это сейчас ОМОН – чуть ли не под 500 человек, а тогда их было не больше 20. Все мастера спорта, рыцари, все без лат весили за 100 кг. Во главе их сидел Нестеров, а на правой ноге у берца красиво был на специальном ремне подвешен нож неимоверной строгости. Рядом в кожанках раздольно разлеглась братва. О чем-то терли и причем общественно значимом.
Завидя нас, все обрадовались и без вступления начали задавать единственный вопрос: «По каким улицам в Ленинград войдут танки?». Мы отшучивались – где мы, а где танки. Больше смеялись над ними. Кто-то подкалывал, что надо сначала узнать толщину брони, потому как клинок Нестерова может не пробить башню.
Воркутинские разозлились. Старший из них, чтобы прервать сарказм, четко и коротко сформулировал их цели и задачи.
Оказалось, что возле здания городской прокуратуры на углу Исаакиевской площади и улицы, названной в честь декабриста Якубовича, стоят их машины. А в машинах тех своего часа дожидаются несколько гранатометов и прочее нужное. И если они узнают, как будут заходить танки, то среди них есть парень-афганец. Он подобьет первый танк и последний, остальное дело техники остальных, вооруженных «калашами».
До меня дошло, что они серьезно. И ни у омоновцев, ни у нас не возникло мысли пойти и их разоружить. Они тупо знали, что ортодоксальные коммунисты вернут все обратно. Для кого-то это был конец демократии, для них – конец Гуляй-Поля.
А напротив Мариинского дворца уже собирались какие-то студенты, демократично настроенные обыватели, чуть ли не уличные музыканты. Чуть позже они начнут сооружать смешные баррикады из раскладушек и табуреток. Очевидно, чтобы поставить заслон военщине. Молодежь была реально идейная. Там выступал Собчак, и на Красную Пресню это было совсем не похоже.
Поматерясь, перекрестясь, наша группа «ух» пошла прогуляться по Невскому, чтобы хоть не сидеть в ожидании разъяренной толпы.
Невский же жил своей обычной жизнью и все шло своим чередом. Карманники крали, жулики облапошивали, спекулянты наживались. Центровой Ленин, как всегда, скупал валюту на Думе. Никакой политики, только нажива. Раздав кому-то затрещины и поболтав с солидными аферистами, мы припарковались к гостинице «Астория». Это сегодня там типично шикарно-дорого, а тогда туда кроме элитных проституток и дипломатов мало кого пускали.
На первом этаже, за столиками мы наткнулись на два бодрых коллектива. Там уже заседало несколько омоновцев и воркутинских. Это сейчас ОМОН – чуть ли не под 500 человек, а тогда их было не больше 20. Все мастера спорта, рыцари, все без лат весили за 100 кг. Во главе их сидел Нестеров, а на правой ноге у берца красиво был на специальном ремне подвешен нож неимоверной строгости. Рядом в кожанках раздольно разлеглась братва. О чем-то терли и причем общественно значимом.
Завидя нас, все обрадовались и без вступления начали задавать единственный вопрос: «По каким улицам в Ленинград войдут танки?». Мы отшучивались – где мы, а где танки. Больше смеялись над ними. Кто-то подкалывал, что надо сначала узнать толщину брони, потому как клинок Нестерова может не пробить башню.
Воркутинские разозлились. Старший из них, чтобы прервать сарказм, четко и коротко сформулировал их цели и задачи.
Оказалось, что возле здания городской прокуратуры на углу Исаакиевской площади и улицы, названной в честь декабриста Якубовича, стоят их машины. А в машинах тех своего часа дожидаются несколько гранатометов и прочее нужное. И если они узнают, как будут заходить танки, то среди них есть парень-афганец. Он подобьет первый танк и последний, остальное дело техники остальных, вооруженных «калашами».
До меня дошло, что они серьезно. И ни у омоновцев, ни у нас не возникло мысли пойти и их разоружить. Они тупо знали, что ортодоксальные коммунисты вернут все обратно. Для кого-то это был конец демократии, для них – конец Гуляй-Поля.
А напротив Мариинского дворца уже собирались какие-то студенты, демократично настроенные обыватели, чуть ли не уличные музыканты. Чуть позже они начнут сооружать смешные баррикады из раскладушек и табуреток. Очевидно, чтобы поставить заслон военщине. Молодежь была реально идейная. Там выступал Собчак, и на Красную Пресню это было совсем не похоже.
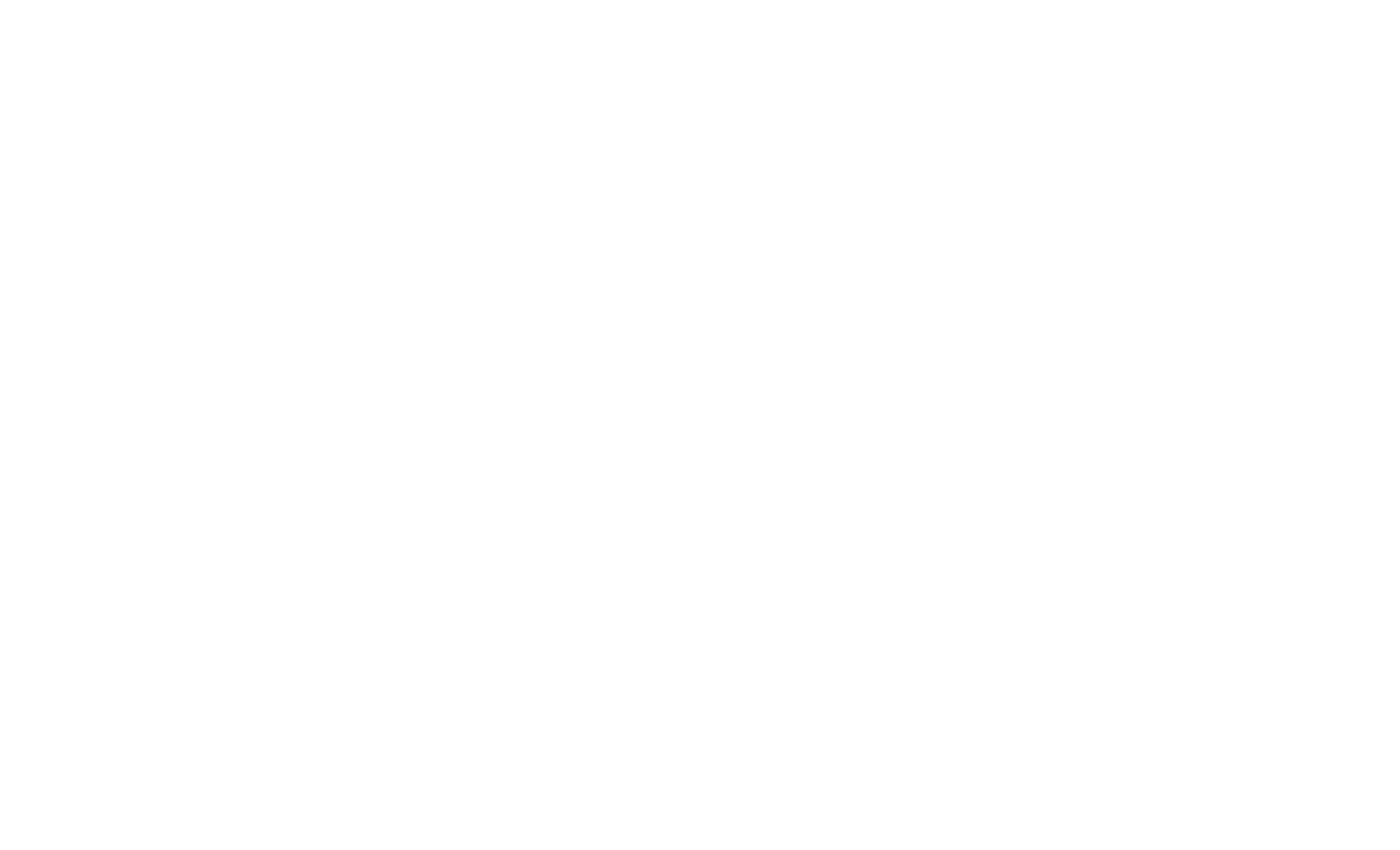
(с) pastvu.com. Василий Голиняк
В Ленинграде было под 20 тысяч милиционеров, дивизия внутренних войск 5402 стояла возле Эрмитажа на улице Халтурина, ныне Миллионной. Четыре этажа Большого дома набиты сотрудниками Комитета государственной безопасности. У всех них не то что табельные пистолеты Макарова, а пулеметы в дежурных частях. И все, судя по всему, разоружены и только и готовы, что поджечь архивы. А передо мной сидела горстка спортсменов, готовая воевать, то есть жертвовать жизнью. Раз так, то это и есть настоящая власть, на тот момент единственная. А раз так, то она имеет право на царство.
Водоворот
На особняке, где до сих пор располагается Городская прокуратура, есть памятная доска: «Здесь жил и умер Казимир Малевич».
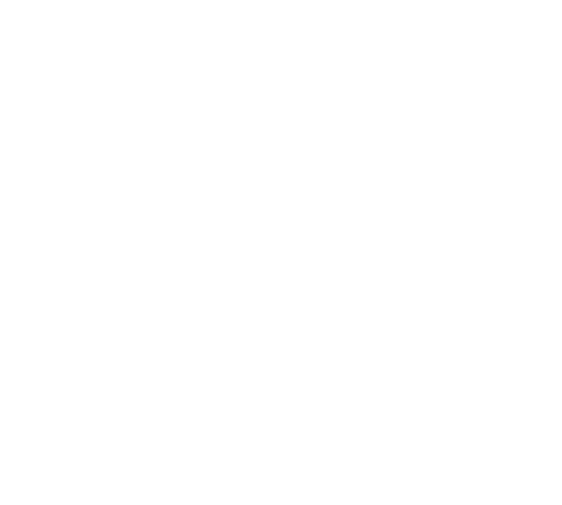
(с) wikimapia.org
Тогда ее еще не было, но именно в этом месте стояли те машины «воркутинских», набитые оружием. Это символично вяжется с его «Черным квадратом» – предреволюционной картиной, имеющей глубочайший смысл. Черный квадрат – это портал в совершенно другой мир. Можно сказать, что оттуда надвигалась нехорошая энергия. Вскоре всех засосет в эту дыру, как это случилось после 1917-го.
Игорь Карпов:

«Путч еще как помню. Летим с дискотеки с приятелем фарцовщиком. Это было на взморье, рядом с шалашом Ленина. На Исаакий подъезжаем, чтобы иностранцам что-то продать, а там как в фильмах про революцию – все какие-то с красными бантиками, чуть ли не баррикады из какой-то мебели. Мы опешили, озираемся, интересно же. Нас останавливают на патруль похожие, но не патруль, а какие-то штатские, а с ними мент. И главное, говорят: «Подвезите женщину в Смольный». Ну кино и только. Я ее повез, спрашиваю, а что происходит? Она так ошарашенно на меня: «А вы что не знаете?!». Я замолчал, еду, анализирую – на праздник не похоже. Может, Аврора снова выстрелила?»
Ольга Слободская:

«После того, как утром 19 августа 91-го нам объявили о путче, я попыталась позвонить хоть кому-то в Москву, но все и везде было занято. Наверняка перерубали связь. 20 августа 1991 года я пришла к Мариинскому дворцу. Информации никакой, ну может быть, какие-то листовки. Но что там правда, а что – нет? Мне – 24 года, я секретарь Ленинградского рок клуба. Мы не организовывались же. Кто-то и из рок клуба периодически приходил, уходил. Это потом уже на площади выступил Собчак. А тогда мы все это сумбурно обсуждали, мы же уже прошли перестройку и, по ощущениям, двигались вперед. Вот чуть-чуть – все будет хорошо, а тут вдруг – бац, и категорически назад. Смотрели на это как на реванш коммунистов и чекистов.
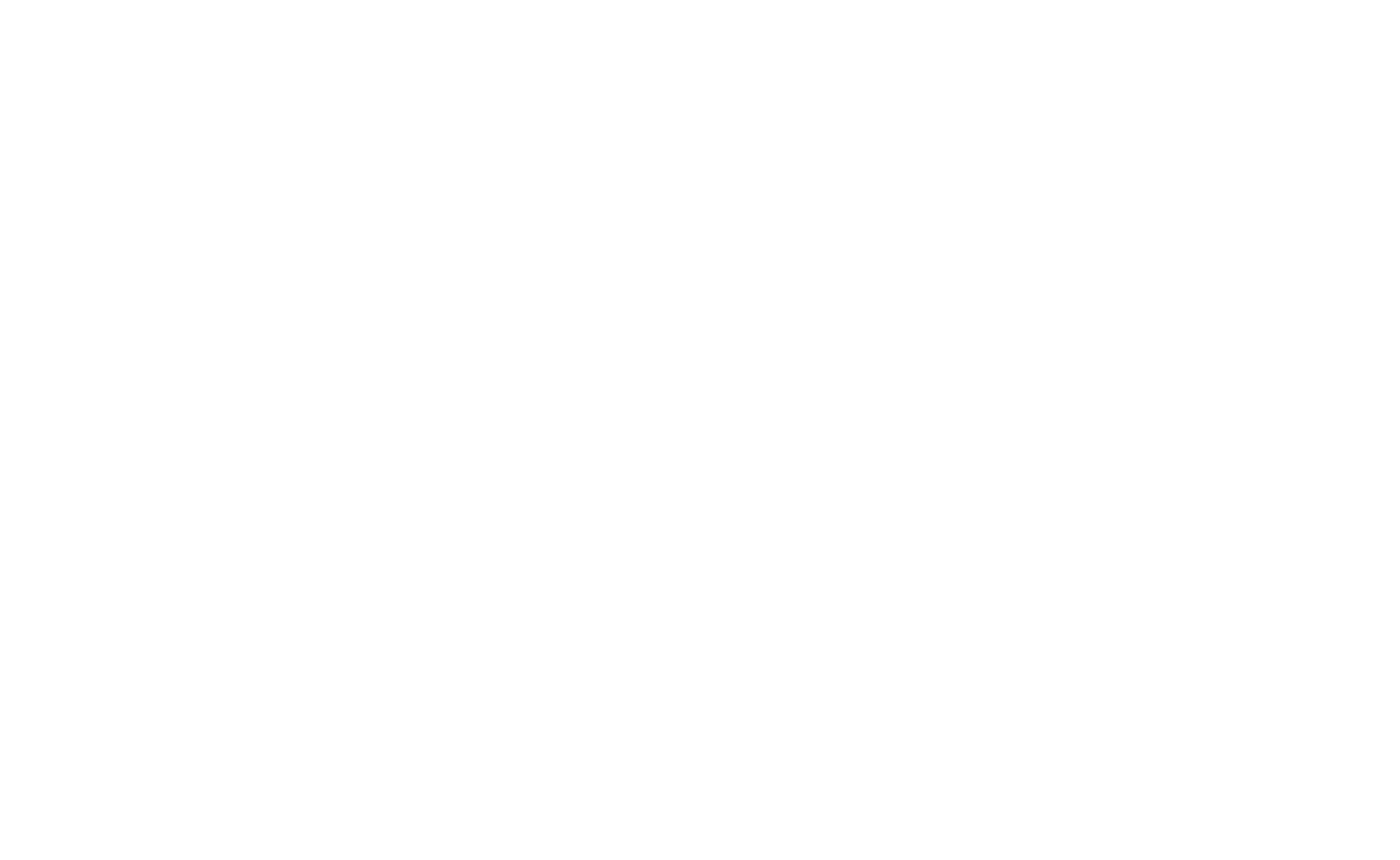
Рок-клуб, Ленинград, конец 80-х
Что говорили друг другу, слабо помню, я не часто возвращаюсь в прошлое – долгая память хуже сифилиса. Но были тогда все довольно сосредоточенные. Мои два приятеля боялись, что скоро начнется реальный махач. Мы не о танках думали, а о саперных лопатках. Со спортивной подготовкой у нас было не очень. Вот они и предложили мне, что если начнется, то буквально возьмут меня за руки и за ноги, да закинут в витрину гостиницы «Астория». Там же иностранцы, а к интуристам солдаты не сунутся. А я им отвечала, что порежусь».
Георгий Пугачев:

«В конце 80-х я работал в Управлении уголовного розыска Ленинграда и загремел. После суда меня направили в колонию Нижнего Тагила для бывших сотрудников. В 1991 году туда привезли известного всем зятя Брежнева Николая Чурбанова, который, как известно, был арестован еще в 1987 году, а после получил 12 лет. Любопытно – мне тоже отмерили 12 лет, а натворил я поменее.
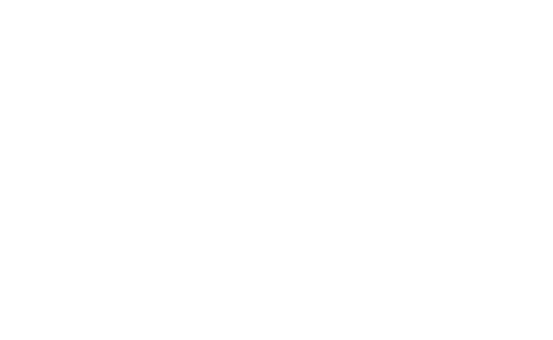
(с) wiki.org. Замминистра МВД Чурбанов и дочь Брежнева
Тогда в Тагиле сидело много маститых фигур – по Краснодарскому, Узбекскому делам.
18 августа 1991 года поздно вечером, после отбоя они все собрались в клубе колонии. За столом сидели: бывший генерал Чурбанов, его кореш – бывший генерал МВД Калинин, бывший заместитель министра МВД Узбекистана Бегельман, бывший первый секретарь ЦК КПСС Узбекистана Усманходжаев, бывшие полковники с Краснодара. Они пили чай, спорили о судьбе России.
В этот момент к ним вошел начальник колонии – полковник Иван Жарков – человек нрава крутого. Настоящий хозяин. Фильмы про сталинские лагеря с него снимать можно.
Никто не встал при его появлении. Он с ухмылкой спросил: «Ну что, сколько мне отмерили срока, если ваша возьмет? Небось на всю катушку – пятнадцать?»
– Ты нам, Иван Данилович, ничего плохого не сделал. Получишь свою пятерочку, – ответил ему Чурбанов.
Когда ГКЧП рухнуло, Жарков при всех указал Чурбанову на карцер:
– За что пятнадцать суток?! – возмутился тот.
– За нарушение распорядка дня – вы же после отбоя чаевничали, да еще в организованной антиправительственной группе, – засмеялся хозяин.
Но Чурбанова в штрафной изолятор не отвели, Жарков его простил и сказал: «Ты бы, Коля, поступил по-другому».
18 августа 1991 года поздно вечером, после отбоя они все собрались в клубе колонии. За столом сидели: бывший генерал Чурбанов, его кореш – бывший генерал МВД Калинин, бывший заместитель министра МВД Узбекистана Бегельман, бывший первый секретарь ЦК КПСС Узбекистана Усманходжаев, бывшие полковники с Краснодара. Они пили чай, спорили о судьбе России.
В этот момент к ним вошел начальник колонии – полковник Иван Жарков – человек нрава крутого. Настоящий хозяин. Фильмы про сталинские лагеря с него снимать можно.
Никто не встал при его появлении. Он с ухмылкой спросил: «Ну что, сколько мне отмерили срока, если ваша возьмет? Небось на всю катушку – пятнадцать?»
– Ты нам, Иван Данилович, ничего плохого не сделал. Получишь свою пятерочку, – ответил ему Чурбанов.
Когда ГКЧП рухнуло, Жарков при всех указал Чурбанову на карцер:
– За что пятнадцать суток?! – возмутился тот.
– За нарушение распорядка дня – вы же после отбоя чаевничали, да еще в организованной антиправительственной группе, – засмеялся хозяин.
Но Чурбанова в штрафной изолятор не отвели, Жарков его простил и сказал: «Ты бы, Коля, поступил по-другому».
Георгий Пугачев:

«Я тогда придерживался старых традиций. Первый раз я сел по молодости и надолго. Попал в девятнадцатый лагерь Кировской области для особо одаренных и не поддающихся перевоспитанию. Это было в Олимпийский год. В этой зоне я и познакомился с патриархом преступного мира – Василием Бабушкиным по прозвищу Бриллиант. Он был самым авторитетным вором в законе. По одному его слову зона могла с ног на голову перевернуться и обратно встать на место. Менты его на «вы» называли. Он был небольшого роста, худой, в старых круглых очках.
Как-то при мне он решал спор между арестантами. И выяснилось, что один из них употреблял морфий. Так Бриллиант сказал следующее: «Ты очень хороший человек, но с сегодняшнего дня я не хочу, чтобы ты находился там, где нахожусь я. Человек, который употребляет наркотики, не может иметь своего мнения и слова». Вот так этот парень из категории порядочного арестанта сразу превратился в обычного мужика.
Наверное, я до сих пор нахожусь под воздействием его личности и веры.
Годы спустя я эти слова Бриллианта несколько раз как завет авторитетным ворам пересказывал, а они злились. Крыть-то нечем, а опровергать его, - это как Библию переписывать.
А Бриллианта сразу при приходе Горбачева задушили, в 1985-ом, в Соликамске в самом лютом месте – на «Белом Лебеде».
Как-то при мне он решал спор между арестантами. И выяснилось, что один из них употреблял морфий. Так Бриллиант сказал следующее: «Ты очень хороший человек, но с сегодняшнего дня я не хочу, чтобы ты находился там, где нахожусь я. Человек, который употребляет наркотики, не может иметь своего мнения и слова». Вот так этот парень из категории порядочного арестанта сразу превратился в обычного мужика.
Наверное, я до сих пор нахожусь под воздействием его личности и веры.
Годы спустя я эти слова Бриллианта несколько раз как завет авторитетным ворам пересказывал, а они злились. Крыть-то нечем, а опровергать его, - это как Библию переписывать.
А Бриллианта сразу при приходе Горбачева задушили, в 1985-ом, в Соликамске в самом лютом месте – на «Белом Лебеде».
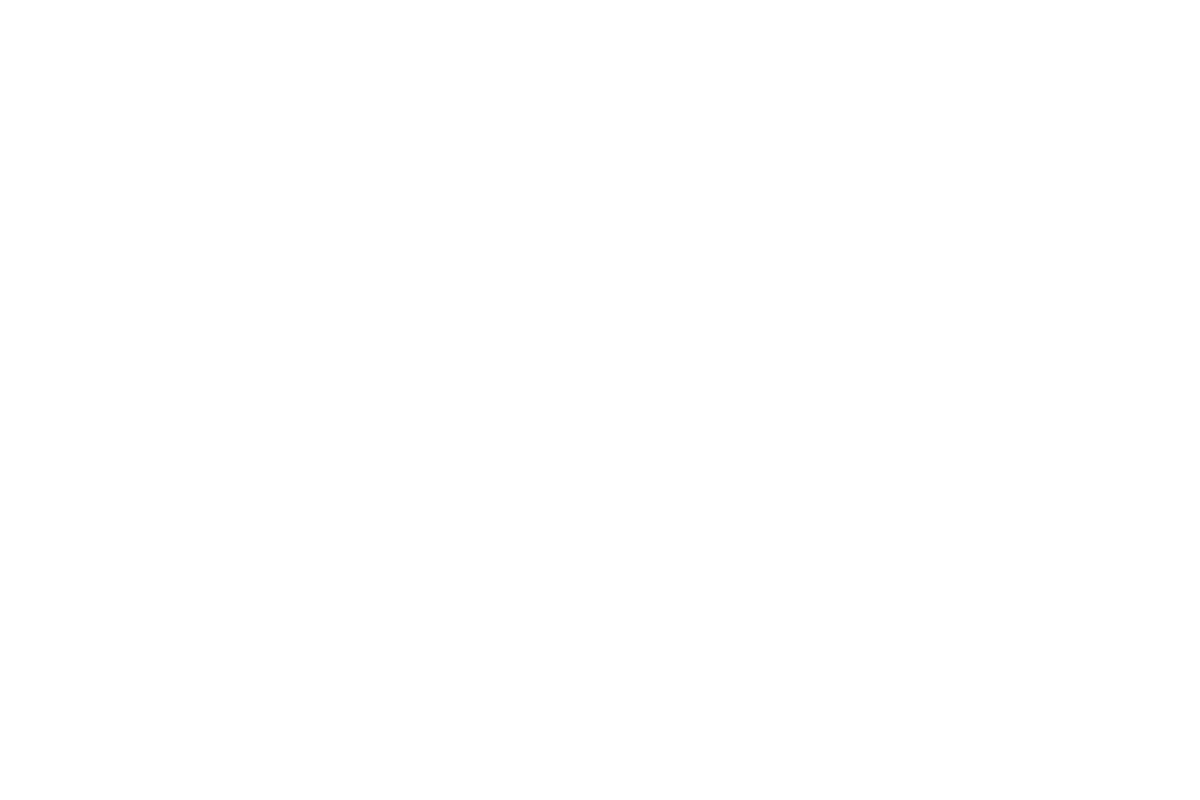
(с) wiki.org.Бриллиант.
Это помещение камерного типа на территории Соликамского пересыльного пункта. Место для тех, кто не прогибается под красных. До 90-х там был ад: убивали, насиловали, калечили.
Мне довелось посетить «Лебедь». Один пример: работа начиналась с пяти тридцати и пока Луна не погаснет. Тащим мы бетонный столб человек в двадцать. Командуют: пятеро таких-то отойти. Тащат пятнадцать. Потом: трое таких-то отойти. Как жилы лопаются, слышно. А нам кричат: «Рабы, жить хотите – дотащите».
И верховодила не милиция. Она там права голоса практически не имела. Надзирателями были зэки из тех, кому жить осталось до первой минуты на воле. Они с дубинами ходили. Это были уже не гниды и не твари, это другое состояние. Их потом как вшей давили.
А когда путч случился в 1991 году, я сидел в лагере с названием «Красный берег». Так пока ГКЧП не захлебнулся, три дня начальник оперчасти вышагивал по зоне и орал: «Мрази, еще пару дней, и я вам покажу Советскую власть – всех с особо тяжкими статьями на тот свет отправим».
Так что пусть Ельцину земля пухом будет. Он прервал эту живодерню».
Мне довелось посетить «Лебедь». Один пример: работа начиналась с пяти тридцати и пока Луна не погаснет. Тащим мы бетонный столб человек в двадцать. Командуют: пятеро таких-то отойти. Тащат пятнадцать. Потом: трое таких-то отойти. Как жилы лопаются, слышно. А нам кричат: «Рабы, жить хотите – дотащите».
И верховодила не милиция. Она там права голоса практически не имела. Надзирателями были зэки из тех, кому жить осталось до первой минуты на воле. Они с дубинами ходили. Это были уже не гниды и не твари, это другое состояние. Их потом как вшей давили.
А когда путч случился в 1991 году, я сидел в лагере с названием «Красный берег». Так пока ГКЧП не захлебнулся, три дня начальник оперчасти вышагивал по зоне и орал: «Мрази, еще пару дней, и я вам покажу Советскую власть – всех с особо тяжкими статьями на тот свет отправим».
Так что пусть Ельцину земля пухом будет. Он прервал эту живодерню».
Юрист Эдуард Торчинский, родился в 1959 году:

«В 1991 году я был кооператором. Мы экономили – в двух комнатках сидели все. Строили очередной завод, как нам казалось, лучший в мире. Туда пришел в дупель пьяный сварщик – началась потасовка. Я врезал ему. Вскоре меня вызвали куда следует и заявили, что я избил работягу.
Это было начало августа. В силу своего верхоглядства, я уехал отдыхать с семьей в Крым.
18 августа до меня дозвонился следователь. Уж как он меня разыскал, говорит о его неукротимом интимном желании сообщить мне дурную весть. И говорит: «С учетом происходящих событий слово «кооператор» – преступно». И потребовал, чтобы я немедленно вернулся, так как на фоне происходящих катаклизмов избиения пролетария он не спустит.
Честно скажу – меня он этим напугал. Я рванул в Симферополь на самолет. Десятки тысяч осаждали аэропорт – чиновники, милиционеры, военные. Я обратился к директорам совхозов, с которыми я работал, а они мне вручили бумажку в клеточку с подписью кого-то, по которой я и улетел в Ленинград.
Когда прилетел, то прошло уже с момента ГКЧП три дня. Все было ясно, Янаев откапал все свои слезы. Их смели. С определенным сарказмом я явился к следователю.
– Теперь нет основания вас привлекать, – вежливо сказал он.
А потом он заходил в мой магазин «Фрукты-овощи» на Чернышевской и брал товар бесплатно, хотя мы ни о чем не договаривались. Мне это надоело, и я его шуганул. А он умудрился что-то такое заявить, мол, я тебе от всего сердца помог, а ты жадничаешь».
Это было начало августа. В силу своего верхоглядства, я уехал отдыхать с семьей в Крым.
18 августа до меня дозвонился следователь. Уж как он меня разыскал, говорит о его неукротимом интимном желании сообщить мне дурную весть. И говорит: «С учетом происходящих событий слово «кооператор» – преступно». И потребовал, чтобы я немедленно вернулся, так как на фоне происходящих катаклизмов избиения пролетария он не спустит.
Честно скажу – меня он этим напугал. Я рванул в Симферополь на самолет. Десятки тысяч осаждали аэропорт – чиновники, милиционеры, военные. Я обратился к директорам совхозов, с которыми я работал, а они мне вручили бумажку в клеточку с подписью кого-то, по которой я и улетел в Ленинград.
Когда прилетел, то прошло уже с момента ГКЧП три дня. Все было ясно, Янаев откапал все свои слезы. Их смели. С определенным сарказмом я явился к следователю.
– Теперь нет основания вас привлекать, – вежливо сказал он.
А потом он заходил в мой магазин «Фрукты-овощи» на Чернышевской и брал товар бесплатно, хотя мы ни о чем не договаривались. Мне это надоело, и я его шуганул. А он умудрился что-то такое заявить, мол, я тебе от всего сердца помог, а ты жадничаешь».
Вердикт
Широкая известность Кумарина и «тамбовцев» вынудила ОРБ обратить внимание на его деятельность.
В ноябре 1989 года были арестованы тренер по боксу детской и юношеской спортшколы Красногвардейского района Валерий Ледовских и Габриэл Мирилашвили, брат Михаила. В июне задержали экспедитора кооператива «Витамин» Владимира Кумарина. В феврале 1991 года для пущей изоляции Кумарина переводят в изолятор КГБ.
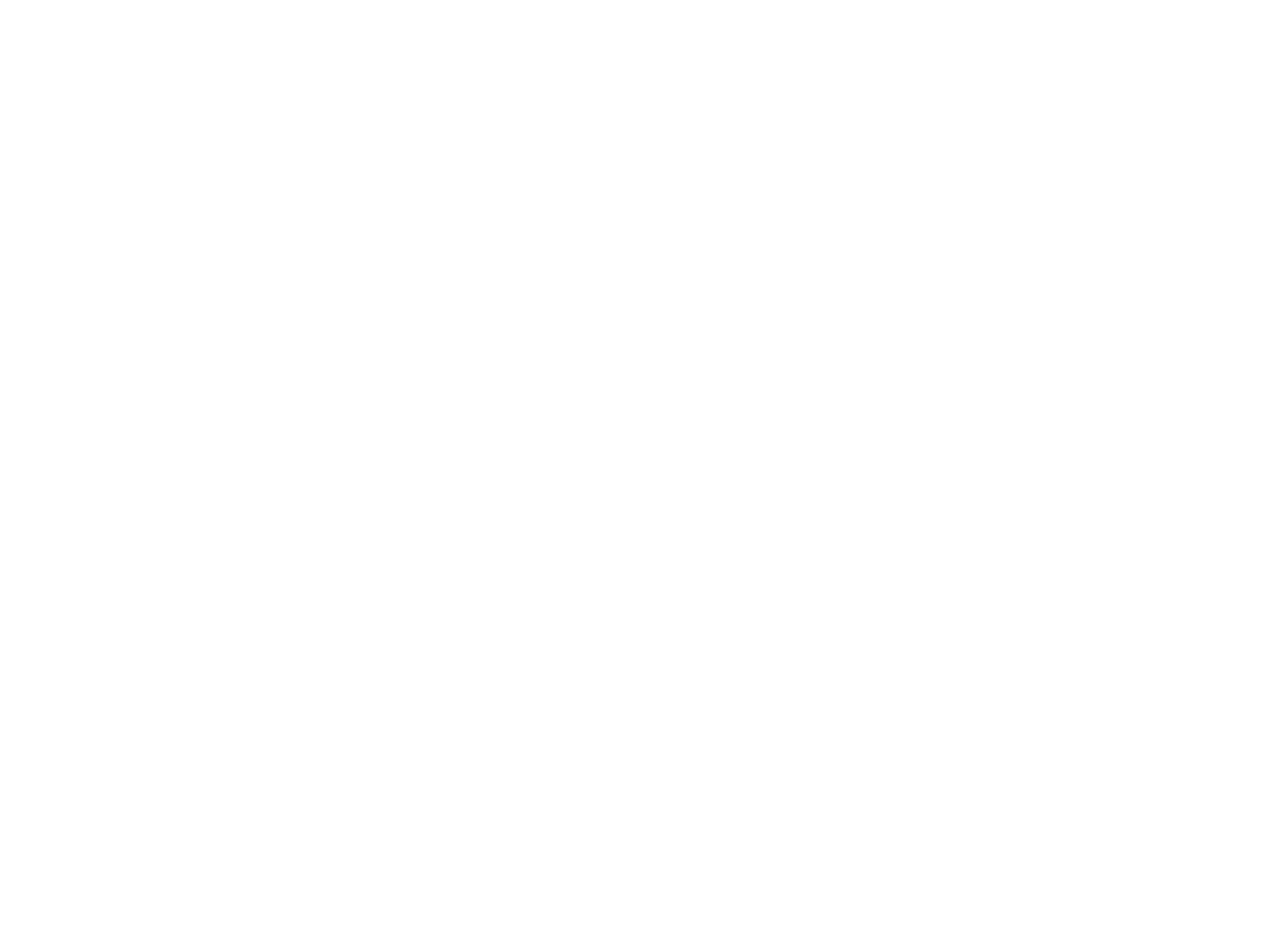
В первый же день во внутренней тюрьме КГБ Кумарин пишет заявление: «Прошу Вас дать указание выдать мне второе одеяло. Под одним одеялом приходится «сворачиваться в комочек» и от боли в спине просыпаться. В моей просьбе прошу не отказать». На заявлении стоит резолюция: «Согласовать вопрос с врачом» и подпись: «Дежурный Малышев». Им вменялось несколько не связанных между собой вымогательств, избиений и тому подобного.
Слушания по делу походили в течение года. К каждому приезду обвиняемых в зал суда, благодаря заботе Михаила Мирилашвили, им выдавали продуктовые наборы с бутербродом с черной икрой, бутербродом с палтусом, люля-кебабом и мелко нарезанными фруктами.
Приговор должны были зачитать 19 августа 1991 года. Прокурор запросила для Кумарина 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для Ледовских – 9, а для Мирилашвили – 8.
Из-за путча вынесение приговора Кумарину не состоялось 19 августа и было перенесено на 4 сентября. Мирилашвили был осужден условно за подделку трудовой книжки, куда внес запись о должности подросткового врача для получения лимитной прописки в городе, и вышел из зала суда. Ледовских был осужден за подделку временного талона водительского удостоверения на Некрасовском рынке и избиение сожительницы. Девушка пришла в суд с цветами, вручила их судье и заявила, что любит Валеру. Он сразу и вышел. Кумарина освободили через год. Так что судья увидела, кто выиграл в путч, и сделала политически правильный выбор.
Слушания по делу походили в течение года. К каждому приезду обвиняемых в зал суда, благодаря заботе Михаила Мирилашвили, им выдавали продуктовые наборы с бутербродом с черной икрой, бутербродом с палтусом, люля-кебабом и мелко нарезанными фруктами.
Приговор должны были зачитать 19 августа 1991 года. Прокурор запросила для Кумарина 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для Ледовских – 9, а для Мирилашвили – 8.
Из-за путча вынесение приговора Кумарину не состоялось 19 августа и было перенесено на 4 сентября. Мирилашвили был осужден условно за подделку трудовой книжки, куда внес запись о должности подросткового врача для получения лимитной прописки в городе, и вышел из зала суда. Ледовских был осужден за подделку временного талона водительского удостоверения на Некрасовском рынке и избиение сожительницы. Девушка пришла в суд с цветами, вручила их судье и заявила, что любит Валеру. Он сразу и вышел. Кумарина освободили через год. Так что судья увидела, кто выиграл в путч, и сделала политически правильный выбор.
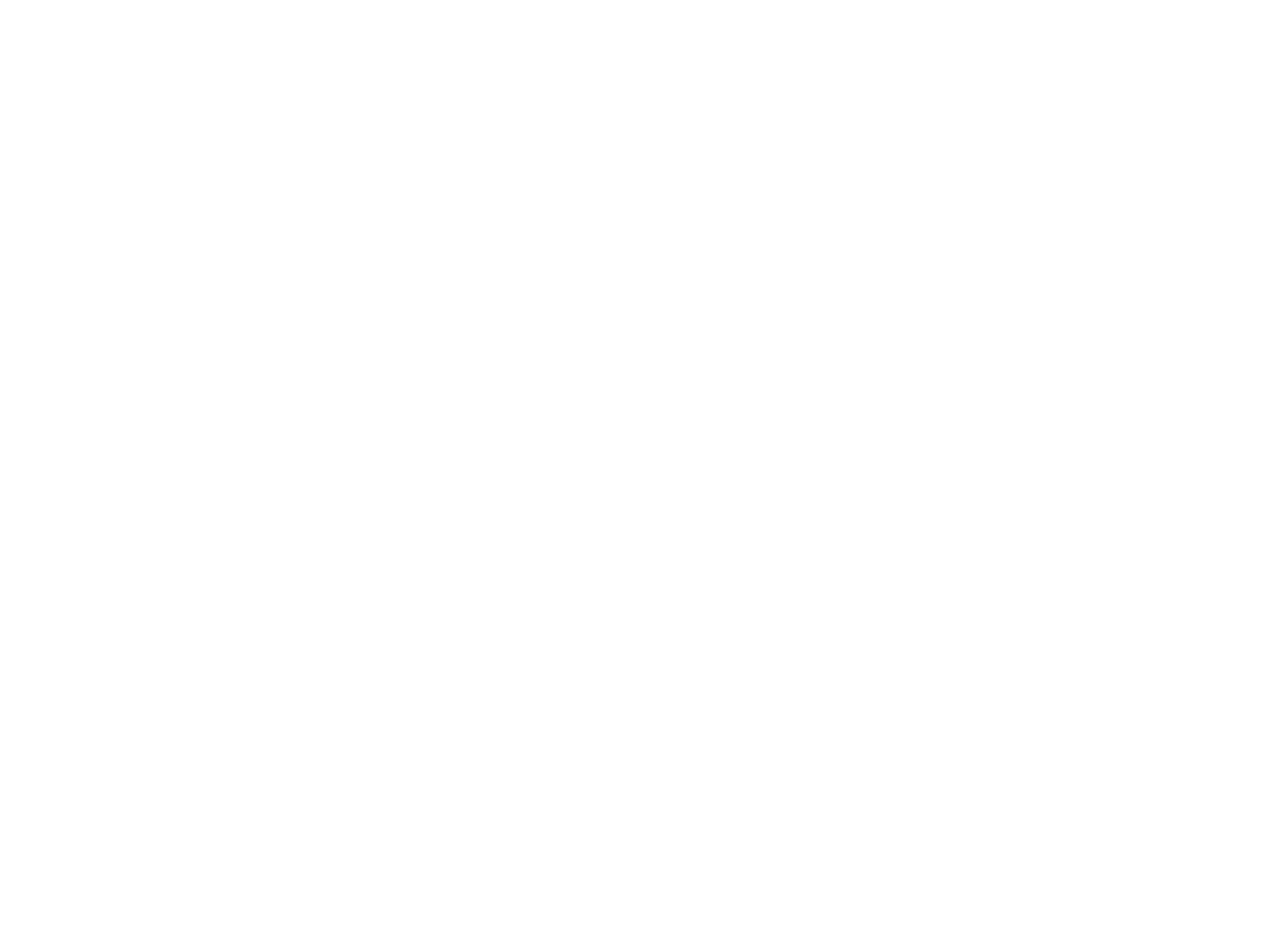
«Очень долго приговор не вступал в законную силу, и я до января 1992 года так и сидел в «комитетской» тюрьме. А потом меня перевели в «Кресты». Там я пробыл месяца три. Там уже очень четко чувствовалось разделение на «тамбовских» и «малышевских». В камере я сразу фамилии не назвал, начал с людьми разговаривать, выяснилось, что очень многие, кто там сидел, со мной знакомы. Они только на следующий день узнали мою фамилию. Я в одной камере с «малышевскими» сидел – со Слоном и Марадоной. Вот так забавно получилось», - вспоминал сам Владимир Кумарин в интервью Андрею Константинову.
Остается добавить трогательные строчки из характеристики Владимира Кумарина, представленной на суд Благотворительной миссией для малоимущих и детей-сирот Детского дома Смольнинского района: «За время работы проявил высокий уровень знаний в организации детского питания. Большое внимание уделяет качеству приготовления пищи и ассортименту, учитывая возрастной уровень детского питания. В общении с подчиненными тактичен».
Остается добавить трогательные строчки из характеристики Владимира Кумарина, представленной на суд Благотворительной миссией для малоимущих и детей-сирот Детского дома Смольнинского района: «За время работы проявил высокий уровень знаний в организации детского питания. Большое внимание уделяет качеству приготовления пищи и ассортименту, учитывая возрастной уровень детского питания. В общении с подчиненными тактичен».
Выстрел. Вера Татарникова:

«На столкновении эпох, в 1991 году я была заместителем председателя Союза журналистов Ленинграда. Года три я уже была членом партии, но тогда возникла идея создания демократической платформы КПСС и встал вопрос чуть ли не о ликвидации КПСС. Мы решили приостановить свое членство в партии, но, чтобы не подумали, что я это делаю из-за нежелания платить взносы, я заранее заплатила до конца 1991 года. Это случилось в предпоследний день путча. Я зашла в Куйбышевский райком партии, что находился во дворце Белосельских-Белозерских, на Невском. Меня случайно встретил начальник районного отдела КГБ Анатолий Иванович Гиряков. Я его не очень хорошо знала. Он пригласил меня к себе в кабинет, налил кофе, а потом как говорит: «Больше ко мне никогда не приходи. У меня руки в крови». Я ничего не поняла и страшно испугалась.
На следующий день, 22 августа мне говорят – «Гиряков застрелился!».
Анатолий Гиряков родился в 1939 году. В органы он мог попасть только к 1960 году. Никакой крови на его руках в прямом смысле этого слова уже быть не могло. Значит, под кровью он понимал гонения на инакомыслящих, которые, безусловно, были. Все же этим Гиряков доказал, насколько он был верен системе. Это история не про трусость перед расплатой. Он хлопнул дверью, когда идеалы рухнули. Так же поступали некоторые чины царской охранки после Октябрьской.
На следующий день, 22 августа мне говорят – «Гиряков застрелился!».
Анатолий Гиряков родился в 1939 году. В органы он мог попасть только к 1960 году. Никакой крови на его руках в прямом смысле этого слова уже быть не могло. Значит, под кровью он понимал гонения на инакомыслящих, которые, безусловно, были. Все же этим Гиряков доказал, насколько он был верен системе. Это история не про трусость перед расплатой. Он хлопнул дверью, когда идеалы рухнули. Так же поступали некоторые чины царской охранки после Октябрьской.
Сергей Белозеров:

«В те дни я служил в КГБ Ленинграда и помню ту ситуацию с Гиряковым. Помню, он был жизнелюбивым, неконфликтным, в Куйбышевском отделе специализировался больше на молодежных организациях. Ничего серьезного на его территории не происходило. Когда нам сказали, что Толя покончил с собой, то все это восприняли даже спокойно. Атмосфера была такая, что когда мир рушится, то смерть одного из нас никого не задела. Когда ГКЧП пришел конец, мы сидели на четвертом этаже Большого дома и думали, когда за нами придут сотрудники милиции снизу. Тогда же с первого по четвертый этаж – это были кабинеты ГУВД. В прямом смысле, мы считали, что они могут к нам подняться и нас арестовать».
Мощным аккордом, на который тоже особо не обратили внимания, стала смерть члена ГКЧП, министра внутренних дел СССР Пуго. Сын латышского стрелка, всю жизнь шагавший по партийной лестнице, 22 августа он добровольно ушел из жизни вместе со своей женой. А 24 августа в своем кабинете это сделал и первый заместитель министра обороны, маршал Ахромеев. Причина – провал ГКЧП. И не было сценариста, кто захотел бы осмыслить эти высказывания. Мир понесло вперед.
Мощным аккордом, на который тоже особо не обратили внимания, стала смерть члена ГКЧП, министра внутренних дел СССР Пуго. Сын латышского стрелка, всю жизнь шагавший по партийной лестнице, 22 августа он добровольно ушел из жизни вместе со своей женой. А 24 августа в своем кабинете это сделал и первый заместитель министра обороны, маршал Ахромеев. Причина – провал ГКЧП. И не было сценариста, кто захотел бы осмыслить эти высказывания. Мир понесло вперед.
Первый звонок
Первый звонок с мобильного телефона в Петербурге сделали 9 сентября 1991 года. Совершил чудо Анатолий Собчак, но не об этом речь. Аппараты «Дельта телекома» весом в 3 кг и ценой в 5 тысяч долларов сразу стали символом могущества, стартовавшего нового времени.

(с) wiki.org
Эти чемоданы не могла обойти и братва. Но так как тратить деньги она пока готова была только на собственный разгул и разврат, то для того, чтобы красоваться с «Дельтой», она нагибала коммерсантов. Причину откопали мгновенно – чтобы быстро подъезжать в случае наездов других группировок.
Платило за связь, разумеется, тоже купечество. Минута стоила полтора доллара. На черном рынке доллар уже стоил более 30 рублей, а заплата среднего оперативника милиции состояла, примерно из 250 рублей. То есть ее хватило бы минут на 5 мобильного трепа.
Сегодня статус и влияние на умы той громадины можно сравнить разве что с бизнес-джетом, которые избранные порой заказывают в России.
Платило за связь, разумеется, тоже купечество. Минута стоила полтора доллара. На черном рынке доллар уже стоил более 30 рублей, а заплата среднего оперативника милиции состояла, примерно из 250 рублей. То есть ее хватило бы минут на 5 мобильного трепа.
Сегодня статус и влияние на умы той громадины можно сравнить разве что с бизнес-джетом, которые избранные порой заказывают в России.
Карфаген
Напротив Гостиного Двора каждый может купить книгу в «Буквоеде». Тогда это был ресторан «Нева», с конца 80-х превратившийся в штаб братвы.
Там по-прежнему шло гулянье, танцевали и так далее, но за сдвинутыми столами уже сидели ухватившие жизнь за хвост. Вон – «тамбовские», чуть поодаль заехавшие «кемеровские» и так далее. Накатывался 1991 год.
Сегодня в этом магазине перестроили все. Остался лишь мраморный мощный пол на первом этаже. Вступите на него. Эти плиты не похожи на окружающие дизайн. Вы будто ступаете по останкам Карфагена, который сам себя разрушил.
В те дни братва еще была какая угодно, но до одного они точно еще не докатились, одно они точно не знали – еще немного, и большинство из них вскоре превратятся в серийных убийц.
1991-ый можно считать точкой окончательного разрыва с предыдущей традицией. История доказывает, что именно это ведет к радикализации, после чего пассионарии идут до конца, не жалея ни себя, ни других. Война всегда завершает удачную революцию.
Конец первой части. Звучит Реквием Верди - мощный хор, литургический текст о Судном дне.
Сегодня в этом магазине перестроили все. Остался лишь мраморный мощный пол на первом этаже. Вступите на него. Эти плиты не похожи на окружающие дизайн. Вы будто ступаете по останкам Карфагена, который сам себя разрушил.
В те дни братва еще была какая угодно, но до одного они точно еще не докатились, одно они точно не знали – еще немного, и большинство из них вскоре превратятся в серийных убийц.
1991-ый можно считать точкой окончательного разрыва с предыдущей традицией. История доказывает, что именно это ведет к радикализации, после чего пассионарии идут до конца, не жалея ни себя, ни других. Война всегда завершает удачную революцию.
Конец первой части. Звучит Реквием Верди - мощный хор, литургический текст о Судном дне.
Следующую серию смотрите 15.11. 2021
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ